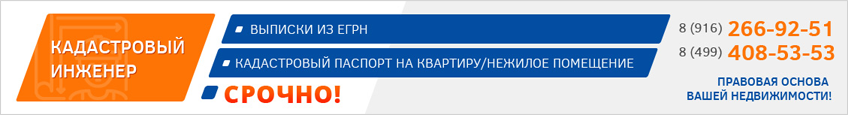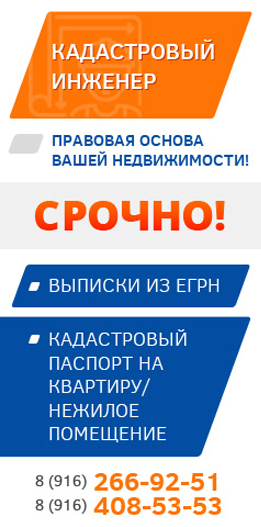28 октября 2010
Травницкая хроника. Консульские времена. Главы XV - XXVIII. Автор: Андрич Иво
Литература / Литература славян и народов СССР / Босния и Герцеговина / Альбом Андрич Иво
Разместил: Александр И
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
Продолжение
XV
Вести и инструкции из Парижа, которые в последнее время Давиль получал с большим опозданием, свидетельствовали о том, что огромная военная машина империи снова пришла в движение, и прямо против Австрии.[53] Давиль чувствовал в этом угрозу и для себя лично. На его беду, казалось ему, лавина должна двинуться как раз в эти места, где он на своем маленьком участке несет столь большую ответственность. Болезненная потребность что‑то предпринять, что‑то делать, мучительный страх ошибиться или упустить что‑нибудь не покидали его теперь и во сне. Спокойствие и хладнокровие Дефоссе раздражали его больше, чем когда‑либо. Молодой человек считал вполне естественным, что императорская армия должна где‑то воевать, и он не видел ни малейшего повода менять образ жизни или направление мыслей. Давиль еле сдерживал гневную дрожь, слушая шутки и остроумные словечки, модные в среде парижской молодежи, которыми Дефоссе щеголял в разговорах о новой войне, без всякого уважения и воодушевления, но и без тени сомнения в победоносном исходе кампании. Это наполняло Давиля бессознательной завистью и острой тоской, потому что ему не с кем было поговорить («обменяться опасениями и надеждами») об этой войне и обо всем остальном в духе тех понятий и с тех точек зрения, которые свойственны и близки ему и его поколению. Теперь, больше чем когда‑либо, мир представлялся ему начиненным западнями и опасностями и теми неопределенными мрачными мыслями и страхами, которые распространяются вместе с войной и влияют особенно на пожилых, слабых или утомленных людей.
Иногда Давилю казалось, что он задыхается, падает от усталости, что он годами марширует в мрачной и бездушной колонне и уже не может идти в ногу, что она грозит растоптать и раздавить его, стоит только ему приостановиться, обессилеть. Оставаясь один, он вздыхал, шепча тихо и быстро:
– Ах, боже милостивый, боже милостивый!
Слова эти он произносил бессознательно, без всякой видимой связи с тем, что в данную минуту совершалось вокруг него; они вырывались вместе с его дыханием и вздохом.
Как не упасть от усталости и головокружительной сутолоки, длившихся столько лет, как бросить все и прекратить дальнейшие усилия и труд? Как разглядеть и хоть что‑нибудь понять в этой всеобщей беспорядочной суете и путанице и, невзирая на усталость, затруднения и неизвестность, маршировать в новую, туманную, безграничную даль?
Будто только вчера он с волнением слушал известие о победе под Аустерлицем, сопровождавшееся надеждой на мир и избавление, и только сегодня утром писал стихи о битве под Иеной; будто только что читал бюллетень о победе в Испании, о взятии Мадрида и изгнании английских войск с Пиренейского полуострова. Не успевали смолкнуть победные клики одной битвы, как их уже заглушал гул новых событий. Изменит ли эта сила естественные законы природы или разобьется об их неумолимое постоянство? Иногда казалось одно, иногда – другое, но точного вывода сделать было невозможно. Дух захватывало, и мозг отказывался работать. И вот в таком состоянии и настроении, никому не рассказывая о своем смятении и тяжких, горестных сомнениях, ничем себя не выдавая, Давиль вместе с миллионами других людей продолжает шагать, работать, разговаривать, стараясь идти в ногу и вносить свою долю в общее дело.
Опять теперь повторится все до мельчайших подробностей. Будут выходить «Moniteur» и «Journal de l'Empire» со статьями, объясняющими и оправдывающими необходимость нового выступления и предсказывающими его неминуемый успех. (Читая их, Давиль будет верить, что все это так и иначе быть не может.) Потом наступят дни и недели размышлений, выжиданий и сомнений. (К чему опять новая война? Сколько же еще воевать? И куда это приведет людей, Наполеона, Францию, самого Давиля и его семью? Не изменит ли на этот раз счастье Наполеону, не потерпит ли он поражение, которое послужит предвестником окончательного крушения?) А потом появится сообщение об успехах с перечнем взятых городов и покоренных стран. И, наконец, полная победа и победоносный мир с территориальными приобретениями и новыми обещаниями всеобщего долгожданного успокоения, которое никак не наступает.
И тогда Давиль, вместе со всеми, даже громче других, будет прославлять победу и говорить о ней как о событии вполне естественном, в котором есть доля и его участия. И никто никогда и знать не будет о его мучительных сомнениях и колебаниях, которые победа рассеет, как туман, и которые он и сам тогда постарается забыть. Какое‑то время, правда очень короткое, он будет обманывать самого себя, но вскоре военный механизм империи снова придет в движение, и он опять попадет во власть прежних переживаний. Все это изнуряло и утомляло, и жизнь его, на вид покойная и счастливая, была на самом деле невыносимо мучительна и находилась в нестерпимом противоречии с его внутренним складом и подлинным существом.
Пятая коалиция против Наполеона[54] была образована в течение этой зимы, а весной внезапно стала общеизвестной. Как и четыре года тому назад, только еще быстрее и смелее, Наполеон ответил на коварный заговор молниеносным движением на Вену. Теперь и непосвященным стало ясно, для чего были созданы консульства в Боснии и чему они должны были служить.
Французы и австрийцы в Травнике прекратили всякие сношения. Служащие не здоровались друг с другом, консулы старались не встречаться на улице. По воскресеньям во время большой мессы в долацкой церкви госпожа Давиль становилась подальше от госпожи фон Миттерер и ее дочки. Консулы проявляли удвоенную деятельность у визиря и его сотрудников, у монахов, православных священников и видных граждан. Фон Миттерер распространял манифест австрийского императора, а Давиль – французское сообщение о первой победе под Экмюлем.[55] Курьеры между Сплитом и Травником встречались и обгоняли друг друга. Генерал Мармон хотел любой ценой поспеть со своей армией из Далмации к Наполеону до начала решающего сражения. Поэтому он требовал от Давиля сведений о краях, через которые ему предстояло пройти, и все время засыпал его распоряжениями. Это втрое увеличивало работу Давиля, затрудняло и усложняло ее, повышало расходы. Тем более что фон Миттерер следил за каждым его шагом и как опытный офицер, изучивший пограничные интриги и козни, старался всячески помешать продвижению Мариона через Лику и Хорватию. Но с ростом заданий и их трудности росли и силы Давиля, его сметливость и жажда борьбы. С помощью Давны он сумел подыскать людей, которые в силу собственных симпатий и интересов были настроены против Австрии и готовы предпринять что угодно в этом направлении. С этими лицами он установил тесную связь. Давиль обратился к комендантам городов в Краине, в особенности к коменданту Нови, родному брату того несчастного Ахмет‑бега Церича, которого ему не удалось отстоять, подстрекал их и снабжал деньгами для набегов на австрийскую территорию.
Фон Миттерер с помощью монахов в Ливно пересылал в Далмацию, занятую французами, газеты и воззвания, поддерживал связь с католическим духовенством в северной Далмации и содействовал организации сопротивления французам.
Платные агенты и добровольные сотрудники обоих консулов были разосланы во все стороны, и о деятельности их можно было судить по всеобщему беспокойному состоянию и частым столкновениям.
Монахи совсем перестали встречаться со служащими французского консульства. В монастырях молились за победу австрийского императора над якобинскими армиями и их безбожным императором Наполеоном.
Консулы посещали или принимали таких лиц, которых в другое время никогда бы не допустили, делали подарки и не скупились на подкупы. Работали денно и нощно, не брезгуя никакими средствами и не щадя сил. При этом положение австрийского консула было гораздо выгоднее. Правда, это был человек усталый, больной, удрученный к тому же семейными неприятностями, но для него такой образ жизни и такой темп борьбы были привычны, они соответствовали его опыту и воспитанию. Получая приказ свыше, фон Миттерер сразу забывал о себе и семье и шел по проторенной дорожке императорской службы, без радости и воодушевления, но и без рассуждений или возражений. Кроме того, он знал язык, страну, людей, обычаи и на каждом шагу мог легко встретить искренних и бескорыстных помощников. Всего этого Давиль не имел и принужден был работать в гораздо более трудных условиях. Но живость духа, чувство долга и прирожденная галльская стойкость в борьбе поддерживали его и заставляли не отставать в соревновании; и он не оставался в долгу, отвечая ударом на удар.
Но при всем этом, если бы дело шло только о консулах, отношения между ними не были бы чересчур плохи. Гораздо хуже вели себя мелкие служащие, агенты и прислуга. Они не знали меры в борьбе и взаимной клевете. Служебное рвение и личное тщеславие целиком поглощали их, как охотника его страсть, и они теряли голову настолько, что, желая вытеснить и оскорбить друг друга, сами себя унижали, роняли в глазах райи и злорадных турок.
И Давиль и фон Миттерер отлично понимали, насколько такой наглый и беспощадный способ взаимной борьбы вредит обеим сторонам, авторитету христиан и европейцев вообще, как недостойно для консулов, единственных представителей культурного мира в этой глуши, бороться и состязаться на глазах у народа, который ненавидит их обоих, презирает и не понимает, а они именно этот народ приглашают в свидетели и судьи. Давиль, чье положение было менее устойчиво, ощущал это особенно сильно. Он решил обратить внимание фон Миттерера на это обстоятельство косвенным образом, через доктора Колонью как лицо неофициальное, и предложить австрийскому консулу обоюдно слегка укротить своих зарвавшихся сотрудников. С Колоньей поговорит Дефоссе, так как Давна с ним в постоянной ссоре. Одновременно он собирался воздействовать на монахов через свою набожную жену и другими возможными способами и попытаться доказать им, что как представители церкви они действуют неправильно, заступаясь только за одну из воюющих сторон.
Чтобы показать монахам, сколь неосновательно они обвиняют французский режим в безбожии, и установить с ними более тесную связь, Давиль надумал попросить у них для французского консульства постоянного капеллана на жалованье. Через долацкого священника он послал письмо епископу в Фойницу. Так как ответа не последовало, то госпожа Давиль должна была переговорить по этому делу с фра Иво и постараться убедить его, как будет хорошо и правильно, если монахи назначат одного из братьев капелланом и вообще переменят свое отношение к французскому консульству.
Госпожа Давиль отправилась в Долац в одну из суббот, после полудня, в сопровождении иллирийского толмача и телохранителя. Она специально поехала к вечерней службе, считая, что в это время удобнее будет переговорить со священником, чем в воскресенье, когда много народа.
Священник принял жену консула, по обыкновению, хорошо. Он сообщил ей, что «утром» получил ответ епископа и как раз собирался переслать его господину генеральному консулу. Ответ был отрицательный, так как, к сожалению, в эти тяжелые времена у них, гонимых, несчастных и малочисленных, не хватает монахов даже для самых необходимых нужд паствы. Кроме того, турки сразу сочли бы этого капеллана доверенным лицом и шпионом и отомстили бы за это всему ордену. Одним словом, епископ сожалеет, что не может удовлетворить просьбу французского консула, просит правильно его понять, и так далее, и тому подобное.
Так писал епископ, но фра Иво не скрывал, что даже если бы он смел и мог, то никогда бы не допустил, чтобы в наполеоновском консульстве служил их капеллан. Госпожа Давиль старалась мягко склонить его на свою сторону, но. защищенный жировой броней, монах оставался непоколебимым. Госпожу Давиль он почитал и уважал за искреннюю и несомненную набожность (монахи вообще гораздо больше уважали госпожу Давиль, чем госпожу фон Миттерер), но упорно и твердо оставался при своем мнении. Свои слова он сопровождал резкими, угрожающими взмахами огромной белой руки, что заставило госпожу Давиль невольно содрогнуться в душе. Было очевидно, что он получил точные инструкции, что позиция его вполне определенна и он не желает ни с кем об этом разговаривать, а тем более с женщиной.
Еще раз заверив госпожу Давиль, что он всегда к ее услугам для всех ее духовных нужд, но в остальном остается при своем мнении, фра Иво вошел в церковь, где началась служба. По какому‑то случаю в Долаце в этот день было много монахов и гостей, и служба оказалась торжественной.
Расстроенная госпожа Давиль предпочла бы сразу вернуться домой, но должная осмотрительность заставила ее остаться, дабы не выглядело так, что она приезжала только для разговора со священником. Эта всегда рассудительная женщина, лишенная излишней чувствительности, была сейчас взволнована и ошеломлена его поведением. Неприятный разговор был для нее тем более мучителен, что по своему воспитанию и характеру она была далека от мирских и общественных дел.
Теперь она стояла в церкви у деревянной колонны и слушала приглушенное и еще нестройное пение монахов, коленопреклоненно молившихся по обе стороны главного алтаря. Служил Иво Янкович. Большой и грузный, он все же по ходу службы умудрялся легко и ловко опускаться на одно колено и сразу снова подниматься. А у госпожи Давиль так и стояла перед глазами его крупная рука, делающая отрицательный жест, и его сверкающий надменностью и упрямством взгляд, устремленный на ее толмача во время их недавнего разговора. Такого взгляда она никогда не видела ни у мирян, ни у священнослужителей во Франции.
Своими крестьянскими грубыми голосами монахи тихо пели акафист богородице. Начинал глубокий голос:
– Sancta Maria… Хор глухо отвечал:
– Ога pro nobis. Голос продолжал:
– Sancta virgo virginum…
– Ога pro nobis, – дружно подхватывали голоса. Молитвенный голос продолжал протяжно перечислять хвалебные наименования Марии:
– Imperatrix Reginarum…
– Laus sanctarum animarum…
– Vera salutrix earum…
После каждого возгласа хор монотонно отзывался:
– Ога pro nobis.
Госпоже Давиль хотелось помолиться под звуки знакомого акафиста, который она когда‑то слушала на прохладных хорах в кафедральном соборе в своем родном Авранше. Но она никак не могла забыть недавний разговор и отогнать мысли, мешавшие ей молиться.
«Все мы молимся одинаково, все мы христиане и исповедуем одну веру, но какие глубокие пропасти разделяют людей», – думала госпожа Давиль, а перед глазами ее все время стоял твердый, жесткий взгляд и резкий жест руки того самого священника, который пел теперь славословие.
Голос продолжал перечислять:
– Sancta Mater Domini…
– Sancta Dei genitrix.
Да, человек знает, что существуют такие пропасти и противоречия между людьми, но, только столкнувшись с жизнью и испытав их действие на самом себе, он понимает, насколько они огромны, трудны, непреодолимы. И какие нужны молитвы, чтобы заполнить и сровнять эти пропасти? В своем подавленном настроении она была готова допустить, что таких молитв не существует. Но тут ее мысль, напуганная и беспомощная, обрывалась. Госпожа Давиль тихо шептала, присоединяя свой неслышный голос к монотонному бормотанию монахов, возвращавшемуся подобно волне и повторявшему:
– Ога pro nobis!
Когда служба окончилась, она сокрушенно приняла благословение все той же руки Иво Янковича.
Возле церкви, кроме своих провожатых, госпожа Давиль увидела Дефоссе со слугой. Он проезжал верхом через Долац и, узнав, что госпожа Давиль в церкви, решил ее подождать и проводить в Травник. Она была рада увидеть знакомое лицо веселого молодого человека и услышать родную речь.
По широкой сухой дороге они возвращались в город. Солнце уже село, но все вокруг было залито каким‑то ярким желтым светом. От красноватой глинистой дороги веяло теплом, а свежие листья и цветочные бутоны на кустах будто светились на черной коре.
Раскрасневшись от верховой езды, молодой человек шел рядом с госпожой Давиль, оживленно разговаривая. За ними слышались шаги сопровождающих и топот копыт лошади Дефоссе, которую вели в поводу. А в ушах все еще звенел акафист. Дорога начала спускаться. Показались травницкие крыши с легким синеватым дымком и с ними действительная жизнь со всеми ее требованиями и задачами, далекими от всяких размышлений, сомнений и молитв.
Приблизительно в это же время у Дефоссе состоялся разговор с Колоньей.
Под вечер, часов около восьми, он отправился к доктору в сопровождении телохранителя и слуги, несшего фонарь.
Дом стоял в стороне, на крутой возвышенности, в окружении непроницаемой ночи и сырого тумана. Доносился шум невидимого ключа Шумеча. Мрак приглушал шум воды, а тишина его усиливала. Дорога была мокрая и скользкая и при скудном мерцающем свете турецкого фонаря выглядела новой и незнакомой, как лесная прогалина, по которой люди идут впервые. Столь же таинственными выглядели и ворота. Только подворотня и кольцо на калитке были освещены, а все остальное тонуло во мраке, нельзя было различить ни формы, ни объема предметов, ни догадаться об их точном назначении. Удары в ворота отдались тяжело и глухо. Дефоссе ощутил их как что‑то грубое и неуместное, почти как боль, а чрезмерное усердие телохранителя показалось ему особенно безобразным и неприличным.
– Кто стучит?
Голос доносился сверху и прозвучал не как вопрос, а как эхо на удары телохранителя.
– Молодой консул. Отвори! – крикнул Алия тем неприятным и подчеркнуто резким тоном, каким подчиненные разговаривают между собой в присутствии старшего.
И мужские голоса, и далекий шум воды походили на какую‑то случайную и неожиданную перекличку в лесу, без ясного повода и без видимых последствий. Наконец послышался звук цепочки, скрип замка и стук засова. Калитка медленно отворилась, за ней стоял человек с фонарем, бледный и сонный, закутанный в пастуший плащ. Два разной силы фонаря озаряли круто поднимающийся двор и низкие темные окна первого этажа дома. Фонари соперничали, который из них лучше осветит дорогу «молодому консулу». Смущенный этой игрой голосов и светотеней, Дефоссе неожиданно очутился перед распахнутыми дверями большой комнаты первого этажа, застоявшийся воздух которой был полон дыма и тяжелого табачного запаха.
Посреди комнаты, у высокого подсвечника, стоял длинный и сутулый Колонья; на нем вперемежку было надето множество турецкой и европейской одежды; на голове была черная шапочка, из‑под которой торчали длинные редкие пряди седых волос. Старик, низко кланяясь, произносил громкие приветствия и комплименты на своем языке, который мог быть и испорченным итальянским, и плохим французским, но Дефоссе все это казалось наносным и случайным, пустой формальностью, лишенной сердечности и подлинного уважения, как будто говоривший эти слова отсутствовал. И тогда все, что он встретил в этом низком дымном помещении – запах и вид комнаты, облик и речь человека, – вылилось в одно лишь слово, и так быстро, живо и ярко, что ему стоило усилий не произнести его вслух: старость. Печальная, беззубая, забытая, одинокая, трудная старость, которая всему придает горький привкус, все изменяет и растравляет: мысли, воззрения, жесты, звуки – все, вплоть до самого света и запаха.
Старый доктор церемонно предложил молодому человеку сесть, но сам продолжал стоять, извинившись тем, что этого требует доброе старинное салернское правило: «Post prandium sta».[56]
Молодой человек сидел на твердом стуле без спинки, чувствуя свое телесное и духовное превосходство, отчего миссия его казалась ему легкой и простой, почти приятной. Он начал говорить с той слепой уверенностью, с какой молодые люди так часто вступают в разговор со стариками, которые кажутся им несовременными и отжившими, забывая, что их умственной медлительности и физической немощности сопутствует большой опыт и искусство во взаимоотношениях с людьми. Дефоссе передал поручение Давиля для фон Миттерера, стараясь, чтобы оно выглядело тем, чем оно было на самом деле, то есть доброжелательным предложением в общих интересах, а не проявлением слабости или страха. Высказав все это, он остался доволен собой.
Уже при последних словах молодого человека Колонья поспешил заверить, что польщен тем, что его избрали посредником, что он все передаст самым добросовестным образом, что он вполне понимает намерения господина Давиля и разделяет его образ мыслей и что он по своему происхождению, званию и убеждениям как нельзя лучше подходит для этой роли.
Ясно, что теперь настала очередь Колоньи быть довольным собой.
Дефоссе слушал его, как слушают шум воды, рассеянно глядя на его правильное продолговатое лицо с живыми круглыми глазами, бескровными губами и зубами, шатавшимися, когда он говорил. «Старость! – думал молодой человек. – Не то плохо, что страдаешь и умираешь, плохо то, что стареешь, потому что старость – это страдание, от которого нет ни лекарств, ни избавления, это медленная смерть». Но молодой человек думал о старости не как о судьбе всех людей, в том числе и своей собственной, а как о каком‑то личном несчастье врача Колоньи.
А Колонья говорил:
– Мне не надо объяснять подробно; я понимаю положение господ консулов, как и всякого культурного человека Запада, которого судьба загнала в эти края. Жить в Турции для такого человека – все равно что ходить по острию ножа или гореть на медленном огне. Мне это хорошо известно, потому что мы на этом острие рождаемся, на нем живем и умираем, в этом огне растем и сгораем.
Не оставляя свои мысли о старости и старении, молодой человек стал внимательнее прислушиваться и лучше понимать слова Колоньи.
– Никому не понять, что значит родиться и жить на грани двух миров, знать и понимать один и другой и быть бессильным что‑либо сделать, чтобы они договорились и сблизились, любить и ненавидеть и тот и другой, всю жизнь колебаться и отклоняться, иметь две родины, не имея, в сущности, ни одной, чувствовать себя всюду дома и вечно оставаться чужестранцем: одним словом, жить распятым, но чувствовать себя одновременно и жертвой и палачом.
Дефоссе слушал с изумлением. Словно в разговор вмешалось третье лицо. Теперь не было уже ничего похожего на пустые слова и комплименты. Перед ним стоял человек со сверкающими глазами и распростертыми длинными и худыми руками и показывал, как живут распятые между двумя противоположными мирами.
Как часто бывает с молодыми людьми, Дефоссе казалось, что этот разговор не случаен, что он находится в какой‑то тесной и особой связи с его собственными мыслями и деятельностью, к которой он готовился. В Травнике редко находились поводы для таких разговоров; это его приятно взволновало, и в волнении он сам стал задавать вопросы, а потом делать замечания и делиться впечатлениями.
Дефоссе говорил столько же из внутреннего побуждения, сколько из желания продолжить разговор. Но старика не надо было заставлять говорить. Он не прерывал своей мысли. Вдохновившись, он говорил, словно читал книгу, подыскивая иногда французские выражения и перемежая их с итальянскими.
– Да, это муки христиан на Ближнем Востоке, муки, которые никогда до конца не могут быть поняты ни вами, представителями христианского Запада, ни тем более турками. Такова судьба левантинцев, которые, подобно poussiere humaine, пыли людской, таскаются между Востоком и Западом, не принадлежа ни одному из них, но получая удары от того и другого. Эти люди знают много языков, но ни один из них не считают родным, им знакомы две веры, но ни в одной из них они не тверды. Это жертвы фатального разделения человечества на христиан и нехристиан: вечные толмачи и посредники, однако души их самих полны неясного и недоговоренного; прекрасные знатоки Востока и Запада, их обычаев и верований, но одинаково презираемые и подозреваемые обеими сторонами. К ним можно применить слова, еще шесть веков тому назад написанные великим Джалаледдином, Джалаледдином Руми:[57] «Я и сам себя не знаю. Я ни христианин, ни еврей, ни перс, ни мусульманин. Я не принадлежу ни Востоку, ни Западу, ни суше, ни морю». Вот каковы эти люди. Это небольшое, обособленное человеческое племя, которое погрязло в двойном грехе Востока и которое надо еще раз спасти и искупить, только никому не известно, кто это сделает и как. Эти люди стоят на границе, духовной и физической, на той черной и кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы. Это грань между морем и сушей, осужденная на вечное движение и колебание, как бы третий мир, где осело все проклятье вследствие разделения земли на два мира. Это…
Дефоссе увлекся и слушал с горящими глазами. Преобразившийся старик продолжал стоять все в той же позе – распятый, с широко распростертыми руками, – тщетно подыскивая слова, и вдруг дрогнувшим голосом быстро закончил:
– Это геройство без славы, мученичество без награды. И хоть бы вы, люди Запада, наши единоверцы и родственники, христиане, пребывающие в одной с нами благодати, хоть бы вы поняли и приняли нас, облегчили бы нашу судьбу.
Колонья опустил руки с выражением полной безнадежности, почти гневно. От неприятного «иллирийского доктора» не осталось и следа. Дефоссе слушал человека, своеобразно и ярко мыслящего. И молодой человек загорелся желанием слушать его дальше и узнать больше, совсем позабыв не только о своем недавнем чувстве превосходства, но и о месте, где он находился, и о цели своего прихода. Он чувствовал, что засиделся гораздо больше, чем следовало и предполагалось, но не мог подняться.
Старик теперь глядел на него взглядом, полным немого умиления, как смотрят на человека, который покидает нас и с которым жаль расставаться.
– Да, господии Дефоссе, вы можете понять нашу жизнь, но для вас это лишь неприятный сон, потому что вы, живя здесь, знаете, что это временно и рано или поздно вы вернетесь на родину, в лучшие условия и к более достойному образу жизни. Вы проснетесь и освободитесь от этого кошмара, мы же – никогда, так как это наша жизнь.
К концу разговора Колонья становился все спокойнее, но держался все более странно. Он подсел к Дефоссе, нагнулся к нему, словно хотел сказать что‑то доверительно, делая ему знак обеими руками, чтобы он оставался спокойным, чтобы словом или жестом не потревожил то маленькое, драгоценное и пугливое, будто птичка, что находится тут, на полу, перед ними. Уставившись на это место ковра, Колонья заговорил почти шепотом, потеплевшим голосом, отражавшим внутреннее умиление:
– В конечном счете все хорошо и все разрешается гармонично. Хотя, разумеется, и выглядит порой нелепым и безнадежно запутанным. «Un jour tout sera bien, voila notre esperance»,[58] как сказал ваш философ. Иначе и нельзя себе представить. Неужели моя мысль, точная и верная, стоит меньше, чем та же мысль, родившаяся в Риме или Париже? И только потому, что она родилась в дыре, называемой Травником? И неужели справедливо, что эта мысль нигде не отмечена, ни в какой книге? Конечно, нет. Несмотря на кажущуюся изломанность и беспорядочность, все связно и стройно. Ни одна человеческая мысль, ни одно душевное усилие не пропадают. Мы все на правильном пути и удивимся, когда встретимся. А мы встретимся и поймем друг друга, куда бы мы теперь ни шли и сколько бы ни блуждали. Это будет радостная встреча, прекрасная и спасительная неожиданность.
Дефоссе с трудом следил за мыслью старика, но не уставал его слушать. Без видимой связи, но тем же доверительным и радостно взволнованным голосом Колонья продолжал говорить. Дефоссе одобрял его, подбадривал, а время от времени, побуждаемый неодолимым желанием, сам вставлял что‑нибудь. Так, он рассказал о своих наблюдениях на пластах дороги у Турбета – свидетельствах различных исторических эпох. О том самом, о чем без всякого успеха рассказывал уже Давилю.
– Знаю, что вы наблюдательны. Интересуетесь и прошлым и настоящим. Вы умеете видеть, – одобрительно заметил Колонья.
И, будто поверяя ему тайну о скрытом сокровище, старик продолжал шептать, больше выражая смеющимся взглядом, чем словами:
– Когда пройдете базар, остановитесь у мечети Йени. Она окружена высокой стеной. Внутри под огромным деревом – никому не известные могилы. В народе говорят, что когда‑то, до прихода турок, эта мечеть была церковью святой Екатерины. И народ верит, что и теперь в одном углу находится ризница, которую никакими силами нельзя открыть. Но если повнимательнее приглядеться к камням в старинной стене, то можно увидеть, что это остатки римских развалин и надгробий. И на камне, лежащем в стене ограды, можно свободно прочитать прекрасно сохранившиеся латинские слова: «Marko Flavio… optimo…».[59] А глубоко под ним, в скрытом от глаз фундаменте, заложены огромные глыбы красного гранита – остатки древнейшего храма бога Митры[60] На одном из камней есть стертый барельеф, на котором можно рассмотреть, как молодой бог света гонится за сильным вепрем и убивает его. А кто знает, что еще сокрыто на самой глубине, под фундаментом? Чьи там погребены усилия, чьи следы навеки стерты? И это ведь на маленьком клочке земли, в заброшенном городишке. А бесчисленные поселения, раскиданные по свету?
Дефоссе смотрел на старика, ожидая дальнейших объяснений, но Колонья, вдруг переменив тон, заговорил гораздо громче, будто теперь его могли слушать и другие:
– Вы понимаете, что все это тесно связано одно с другим и только нам кажется потерянным и забытым, разбросанным без плана. Все это движется, хоть и бессознательно, к одной цели, как сходятся лучи в отдаленном, неизвестном фокусе. Не забывайте, что в Коране ясно сказано: «Может быть, в один радостный день бог помирит вас с вашими врагами и восстановит между вами дружбу. Он всемогущ, добр и милостив». Значит, надежда есть. а там, где есть надежда… Вы понимаете?
Глаза его значительно и победоносно улыбались, как бы желая подбодрить и успокоить молодого человека, а руками он очерчивал перед его лицом круг, долженствовавший изобразить вселенную.
– Вы понимаете? – повторил старик значительно и нетерпеливо, словно считал излишним и неуместным выражать словами то, что и так известно и несомненно, а ему близко и хорошо знакомо.
Но под конец тон разговора изменился. Колонья опять стоял худой и прямой, кланялся и извивался, произнося громкие и ничего не значащие слова, уверяя молодого человека, что он польщен как его посещением, так и данным ему поручением.
На том и расстались.
Возвращаясь в консульство, Дефоссе рассеянно ступал в кругу света, падавшего от фонаря телохранителя, ни на что не обращая внимания. Думал о старом, «тронувшемся» докторе и его живой, но неясной идее, стараясь сосредоточиться и разобраться в собственных мыслях, неожиданно возникавших и переплетавшихся между собой.
XVI
Вести, приходившие в Травник из Стамбула, становились все хуже и путанее. Даже после безуспешной затеи Байрактара и трагической смерти Селима III порядок не налаживался. В конце того же года случился новый переворот, во время которого убили Мустафу Байрактара.[61]
Беспорядки и перемены в далекой столице отражались и в этой заброшенной провинции, но много позднее и в измененном, карикатурном виде, как в кривом зеркале. Страх, недовольство, нищета и злоба, напрасно искавшие выхода, мучили и терзали турок в городах. Ясно предчувствуя потрясения и пагубные перемены, люди ожидали предательства изнутри и угрозы извне. Инстинкт самосохранения и самозащиты заставлял их искать выход в действии, а обстоятельства отнимали все средства и закрывали все пути к этому. И потому их усилия шли впустую и на ветер. А в скученных местечках между высокими горами, где в соседствующих кварталах жили люди разной веры и противоположных интересов, создавалась легко возбудимая и тревожная атмосфера, чреватая всякими неожиданностями, в которой сталкивались слепые силы и то и дело вспыхивали жестокие волнения.
В Европе в это время происходили битвы невиданного доселе размаха и ужаса, исторические последствия которых были еще неясны. В Стамбуле государственные перевороты следовали один за другим, сменялись султаны, погибали великие визири.
В Травнике царило оживление. Как и каждую весну, по приказу из Стамбула и в этом году войска готовились к походу на Сербию; приготовления были шумные, но результат ничтожный. Сулейман‑паша уже двинулся со своим небольшим, но хорошо организованным отрядом. Через несколько дней должен был выступить и визирь. На самом же деле Ибрагим‑паша не знал точно ни плана действий, ни численности войска, которое собирался повести. Он принужден был выступить, получив приказ султана и надеялся личным присутствием заставить и остальных исполнить свой долг. Но собрать и двинуть янычар не было никакой возможности: они уклонялись любыми способами. Пока вносили в списки одних, другие убегали или просто учиняли драку и волнения и, воспользовавшись ими, возвращались по домам, тогда как в списках значились отправившимися в Сербию.
Оба консула изо всех сил старались разведать как можно больше о планах визиря, о количестве и качестве его войска и о действительном положении на сербском фронте. И сами они, и их сотрудники тратили целые дни на эти дела, иногда казавшиеся необычайно важными и трудными, а подчас ненужными и незначительными.
Как только Сулейман‑паша и визирь отправились на Дрину и вся власть и наблюдение за порядком перешли в руки слабого и трусливого каймакама, травницкий базар снова закрылся – во второй раз.
В сущности, это было продолжением прошлогодних волнений, не утихших вполне, а глухо тлевших в ожидании подходящего случая, чтобы снова вспыхнуть. Ярость толпы была на этот раз направлена против сербов, схваченных в разных уголках Боснии и доставленных в Травник по подозрению, что они поддерживали связь с повстанцами в Сербии и готовили такое же восстание в Боснии. Но в одинаковой степени она была направлена и против османских властей, вызывавших недовольство своей слабостью, продажностью и изменой.
Ясно понимая, что восстание в Сербии угрожает самому их дорогому и близкому и что визирь, как и все его приспешники, их не защитит по‑настоящему, а у них самих нет ни сил, ни способов защищаться, боснийские турки впали в состояние нездорового раздражения преследуемого класса и мстили праздным своеволием и бессмысленными жестокостями. Их примеру часто следовала городская беднота, вернее, самый нижний ее слой, которому нечего было терять.
Ежедневно с Дрины или из Краины приводили связанных, измученных сербов, обвиняемых в тяжких, но неопределенных преступлениях, по одному, по двое или же группами по десяти. Среди них были и городские жители, и священники, но больше всего крестьян.
Никто их не допрашивал и не судил. В эти дни они попадали на разбушевавшийся травницкий базар, как в кратер огнедышащего вулкана. Базар чинил над ними расправу без суда и следствия.
Дефоссс, пренебрегая просьбами и предостережениями Давиля, вышел из консульства и видел, как цыгане мучили и казнили двоих неизвестных посреди скотного рынка. Стоя на небольшом пригорке, позади толпы, всецело поглощенной происходившим, Дефоссе, оставаясь незамеченным, мог хорошо разглядеть и жертв, и палачей, и зрителей.
На площади была сутолока и беспорядок. Янычары привели двух осужденных, босых, без шапок, в суконных штанах и разорванных на груди рубахах.
Это были два высоких черноволосых человека, похожих друг на друга, как братья. Насколько можно было судить по остаткам одежды, пострадавшей в дороге и от истязаний, это были горожане. Говорили, что их схватили в тот момент, когда они в полых палках собирались переправить в Сербию письма сараевского епископа.
Янычары изо всех сил старались расчистить место для повешения. Цыгане‑палачи никак не могли распутать веревки. Разгоряченная толпа орала и на двух осужденных, и на янычар, и на цыган, подавалась то в одну, то в другую сторону, угрожая растоптать и смести и жертв и палачей.
Два связанных человека, с оголенными длинными шеями, стояли прямо и неподвижно, с одинаковым выражением удивления и тягостной неловкости. Ни страха, ни храбрости, ни одушевления, ни покорности нельзя было прочесть на их лицах. Они, казалось, были поглощены какой‑то заботой и желали одного, чтоб им не мешали неустанно и усиленно думать о ней. Словно вся эта возня и крики вокруг них совсем их не касались. Они только моргали глазами и поминутно склоняли головы, как бы желая таким образом защититься от этой давки и шума, мешавших им полностью отдаться своей тяжкой думе. На лбу и на висках у них вздулись вены и выступил обильный нот, а так как. связанные, они не могли его стереть, то он струями стекал по жилистым и небритым шеям.
Цыгане, которым удалось наконец распутать веревки, подошли к первому из двух осужденных. Он едва заметно отшатнулся, но сразу остановился, позволив им делать то, что они хотят. Вместе с первым в то же самое мгновение отшатнулся и второй, словно они были связаны невидимыми путами.
Тут Дефоссе. до сих пор спокойно созерцавший все это, быстро повернулся и скрылся на соседней улице. Самого тягостного и печального он не видел.
Два цыгана накинули жертвам петли на шеи, но не повесили их, а, разойдясь в стороны, стали тянуть за концы веревки. У жертв заклокотало в горле и глаза стали вылезать из орбит, они начали дрыгать ногами и извиваться, как паяцы на натянутом канате.
Толпа засуетилась. Все ринулись к месту казни. Первые корчи жертв вызвали возбужденные, радостные крики, жестикуляцию и смех. Но когда у несчастных наступили предсмертные судороги и движения их стали фантастически жуткими, стоявшие впереди начали отворачиваться и отступать. Они, правда, и ждали чего‑то необычного, сами не зная чего, лишь бы найти выход для неясной, но глубокой и целиком владеющей ими неудовлетворенности. Им давно уже хотелось наглядеться на попранного и наказанного врага. Но то, что внезапно представилось их взору, превратилось в боль и мучение для них самих. Удивленные и испуганные, люди отворачивались, норовя скрыться в толпе. Но стоявшие сзади и не видевшие происходящего напирали и подталкивали их все ближе. Потрясенные видом мучений, они поворачивались спиной к месту казни и с невероятными усилиями старались пробиться и убежать, словно от пожара, вовсю работая локтями. Толпа, не зная, почему они бегут, и не понимая их панического поведения, отвечала ударами на их удары и заставляла возвращаться на прежнее место. Так вокруг жуткой пляски медленно погибавших людей нарастала давка, в ход были пущены кулаки, тут и там возникали столкновения, ссоры и настоящие драки. Стиснутые в толпе люди, не имея возможности размахнуться, чтобы ответить на удары, щипались и царапались, плевались, ругались и с полным недоумением, с ненавистью, предназначавшейся жертвам, глядели в искаженные лица друг друга. Те, кто в ужасе спасался от непосредственной близости казни, толкались и пробивались отчаянно, но молча, тогда как большинство продиравшихся в обратном направлении громко кричало. Те же, которые были совсем далеко и не видели ни казни, ни драки впереди, смеялись, пошатываясь вместе с толпой, и, не зная об ужасах, творившихся поблизости, перебрасывались шутками и восклицаниями, обычными во всякой волнующейся и плотно стиснутой толпе. Различные голоса и восклицания – удивления, гнева, испуга, отвращения, ярости, издевки, насмешки – смешивались, сталкивались и перекликались, и все это покрывали общие нечленораздельные выкрики и шум, какие всегда издают сбившиеся в кучу люди со сдавленными животами и стесненными легкими.
– Хооо, хо! – кричали хором какие‑то обезумевшие парни, стараясь раскачать толпу.
– Напира‑ай! – отвечали другие, пробиваясь в противоположную сторону.
– Что дерешься? С ума спятил?
– Дурак, дурак! Обезумел совсем!
– Бей его! Чего жалеешь? Не брат ведь он тебе родной? – весело добавлял кто‑то издалека, полагая, что все это шутка.
Шарканье ног, топот, глухие удары. И снова голоса:
– Мало тебе! Еще хочешь? Получай! Как следует захотелось?
– Эй, ты там, в шапчонке!
– Чего толкаешься? Подходи поближе, спрошу тебя кой о чем.
– Да что с ним церемониться?! Дай ему по башке!
– Стой, сто‑ой!
Все это время только стоявшие впереди или те, кто предусмотрительно забрались куда‑нибудь повыше, могли видеть происходящее на месте казни. Оба мученика упали без сознания, сперва один, за ним другой. Оба теперь лежали на земле. Цыгане подбежали, подняли их и стали поливать водой, бить кулаками и царапать ногтями. И как только несчастные пришли в себя и поднялись на ноги, мучительная казнь возобновилась. Веревку вновь закрутили и потянули с двух сторон, опять жертвы приплясывали и стонали, только все меньше и слабей. И снова стоявшие впереди начали продираться назад, но густая толпа их не пропускала, а с руганью колотила и толкала к месту казни, от которого они хотели убежать.
С низкорослым софтой, похожим на фавна, случился припадок падучей, но упасть он не смог, а стиснутый движущейся, волнующейся массой тел остался в вертикальном положении, хотя и без сознания, с закинутой назад головой, бледным, как мел, лицом и пеной на губах.
Трижды возобновлялась мучительная казнь, и каждый раз обе жертвы безропотно вставали и подставляли шею к петле, как люди, которые стараются сделать все от них зависящее, чтобы все совершилось так, как требуется. Оба были сосредоточены и спокойны, спокойнее самих цыган и любого из зрителей, только задумчивы и озабочены, так озабочены, что даже предсмертные судороги не могли полностью стереть с их лица выражение глубокой и тяжелой заботы.
В четвертый раз их не смогли привести в чувство; тогда цыгане подошли к лежавшим навзничь людям и каждого ударили по нескольку раз ногой в пах, чем и прикончили их.
Цыгане сматывали веревки в ожидании, пока толпа немного разойдется, чтобы продолжить свое дело. Беспокойно зыркая глазами, они между каждыми двумя движениями взволнованно и жадно затягивались цигарками, которые им кто‑то дал. Казалось, они одинаково злились и на неразумную голытьбу, толпившуюся вокруг, и на обоих погибших, неподвижных и затерянных среди бесчисленного множества спешащих ног любопытной толпы.
Немного позднее трупы двух неизвестных мучеников были повешены на специальных виселицах на кладбищенской стене так, чтобы их было хорошо видно со всех сторон. Тела их вытянулись, и они приняли прежний вид, опять стали прямыми, стройными и похожими друг на друга, как братья. Они казались легкими, словно бумажными, а головы – маленькими, так как веревка впилась глубоко под подбородок. Лица были спокойные, без кровинки, не посиневшие и изуродованные как бывает у заживо повешенных; ноги соединены, а одна ступня слегка выдвинута, как при разбеге.
Такими их увидел Дефоссе, возвращаясь около полудня домой. У одного на плече была разорвана грязная рубаха, и лоскут трепыхался от легкого ветерка.
Стиснув челюсти, сознательно решив и это увидеть собственными глазами, молодой человек, потрясенный, но в каком‑то торжественно‑спокойном состоянии духа глядел снизу на лица повешенных.
В таком тягостном и торжественном настроении, которое долго не проходило, он вернулся в консульство. Давиль показался ему маленьким, растерянным и напуганным мелочами, а Давна – грубым неучем. Все страхи Давиля представлялись ребяческими и пустыми, а все его замечания либо далекими от жизни и книжными, либо мелкими и донельзя бюрократическими. Дефоссе понял, что с ним он даже не сможет говорить о том, что видел собственными глазами и так невыразимо глубоко прочувствовал. После ужина, все еще находясь в том же настроении, он вписал в свою книгу о Боснии точно и без прикрас раздел о том, «как совершаются в Боснии смертные приговоры над райей и повстанцами».
Люди начали привыкать к отвратительным и кровавым зрелищам; они сразу забывали виденные и требовали все новых и более разнообразных.
На утоптанной возвышенности между постоялым двором и австрийским генеральным консульством было устроено новое место казни. Тут Экрем, палач визиря, сносил головы, которые потом насаживали на колья.
В доме фон Миттерера поднялся стон и плач. Анна Мария подбегала к мужу, выкрикивая ему в лицо на все лады: «Иосиф, ради всего святого!» – и, называя его Робеспьером, принималась укладываться, готовясь к бегству. Затем, излив свой гнев, утомленная, бросалась мужу на шею с рыданиями, словно несчастная королева, которую приговорили к казни на гильотине и которую палач ожидает за дверью.
Маленькая Агата, действительно напуганная и несчастная, сидела на низком стуле на веранде и тихо, но горько плакала, что для фон Миттерера было гораздо тяжелее, чем все сцены жены.
Бледный и горбатый переводчик Ротта бегал от Конака к мутеселиму, угрожал, подкупал, требовал и умолял прекратить казни перед зданием консульства.
В тот же вечер на площадку привели с десяток сербских крестьян‑граничар и казнили их при свете фонарей и факелов под вопли, пляски и беснования остервеневших мусульман. Головы казненных насадили на колья. Всю ночь до консульства доносилось рычание голодных городских псов, сбежавшихся к месту казни. При лунном свете видно было, как они бросались на колья и рвали куски мяса с отрубленных голов.
Только на другой день, после того как консул посетил каймакама, колья убрали и казни тут прекратили.
Давиль не выходил из дому и лишь издали слышал приглушенные крики толпы, но от Давны получал сведения о ходе восстания и числе казненных в городе. Узнав о том, что творится перед австрийским консульством, Давиль сразу забыл свои страхи и осторожность и, ни с кем не посоветовавшись и ни на одну минуту не задумавшись, соответствует это международным правилам и интересам службы или нет, сел и написал фон Миттереру дружеское письмо.
Это была одна из тех жизненных ситуаций, когда Давиль ясно и точно, без обычных для него колебаний знал, что надо делать, и у него хватало смелости это выполнить.
В письме, понятно, речь шла и о богине войны Белоне, it о непрекращающемся «бряцании оружия», и о службе верой и правдой своим государям.
«Но я полагаю, – писал Давиль, – что не погрешу ни против ваших чувств, ни против службы, если в виде исключения и при совершенно особых обстоятельствах напишу вам эти несколько слов.
С чувством отвращения и возмущения узнав о том, что происходит перед вашим домом, жена и я, будучи и сами жертвами ежедневных дикостей, просим вас верить, что в эти минуты мы думаем о вас и вашей семье.
Невзирая на все, что нас временно разделяет, мы как христиане и европейцы хотели бы в эти дни выразить вам слова симпатии и утешения».
И только отправив письмо окольным путем в консульство по ту сторону Лашвы, Давиль поддался сомнениям, хорошо ли он поступил.
В тот же день, когда фон Миттерер получил письмо Давиля – 5 июля 1809 года, – началась битва при Ваграме.[62]
В самые прекрасные июльские дни в Травнике царила полная анархия. Какое‑то всеобщее помешательство выгоняло людей из дому, толкая их на невообразимые, чудовищные поступки, о которых раньше они и подумать не могли. События развивались как‑то сами собой, согласно чаконам крови и извращенных инстинктов. Происшествия возникали случайно, от чьего‑нибудь возгласа или юношеской шутки, развивались непредвиденно и заканчивались неожиданным образом или внезапно обрывались. Толпы парней шли в одном направлении с определенной целью, но, натолкнувшись по дороге на другое, более волнующее зрелище, забывали обо всем и очертя голову кидались к нему, словно подготавливали его неделями. Рвение их было поразительно. Каждый горел желанием содействовать защите веры и порядка, и каждый с искренним убеждением и священным гневом хотел, не удовлетворяясь созерцанием, лично участвовать в убийствах и издевательствах над предателями и мерзавцами, виновными во всех бедах страны и страданиях и несчастьях каждого из них. Люди шли к месту казни, как идут к святыне, где надеются обрести чудесное исцеление и верное облегчение всякому мучению. Каждый хотел своими руками привести, по крайней мере, одного мятежника или шпиона и принять участие в его казни или хотя бы в определении места и способа ее. Из‑за этого возникали ссоры и драки, в которых со всем жаром и озлоблением сводились личные счеты. Часто можно было наблюдать, как вокруг осужденного толпилось с десяток нищих турок, они возбужденно размахивали руками и ругались, словно наперебой перекупали друг у друга барашка. Мальчишки, мал мала меньше, перекликались; запыхавшись, носились с криками, болтая широченной мотней турецких штанов; они пачкали свои карманные ножи кровью жертв и потом, бегая по кварталу, размахивали ими и пугали малышей.
А дни стояли солнечные, на небе ни единого облачка, была пора обилия зелени, воды, ранних фруктов и цветов. По ночам же сиял лунный свет, прозрачный, стеклянный и холодный. Но и днем и ночью бушевал кровавый карнавал, где все стремились к одной цели, но никто друг друга не понимал и не узнавал самого себя.
Волнение было общим и распространялось как болезнь. Пробуждалась давно уснувшая ненависть, и оживала старая вражда. По роковой ошибке или недоразумению хватали людей ни в чем не повинных.
Иностранцы из консульств не показывались на улице. Телохранители доставляли им сведения обо всем происходившем. Исключением был Колонья, который не смог высидеть в своем сыром и уединенном доме. Старик не в состоянии был ни спать, ни работать. Он спускался в консульство, пробираясь через разъяренную толпу, проходя мимо лобных мест, возникавших то тут, то там. Все замечали, что он постоянно возбужден, что глаза у него горят нездоровым блеском, что он дрожит и запинается в разговоре. Вихрь безумия, круживший в этой котловине, затягивал старика, как водоворот соломинку.
Как‑то раз, ровно в полдень, возвращаясь из консульства, Колонья увидел посреди базара толпу турецких голодранцев, которые вели связанного и избитого человека. Доктор имел полную возможность скрыться в боковой улочке, но его влекла к толпе какая‑то неодолимая сила. В ту минуту, когда он почти поравнялся с ней, раздался хриплый голос:
– Доктор, доктор, не дайте погибнуть безвинно!
Колонья, как завороженный, подошел поближе и, приглядевшись близорукими глазами, узнал жителя Фойницы, католика по фамилии Кулиер. Человек вопил, захлебываясь словами, заклиная отпустить его, потому что он невиновен.
Высматривая в толпе, с кем бы можно было поговорить, Колонья натолкнулся на множество сумрачных взглядов, но, прежде чем он успел что‑либо сказать или сделать, из толпы выступил высокий детина с бледными впалыми щеками и заявил, загородив ему путь:
– Ну, ты, ступай своей дорогой!
Голос его дрожал от плохо скрываемого бешенства.
Не высунись он и не заговори таким голосом, старик, быть может, прошел бы мимо, предоставив беспомощного фойничанина собственной судьбе. Но голос этот притягивал его подобно бездне. Он хотел сказать, что знает Кулиера как порядочного человека, спросить, в чем он провинился и куда его ведут, но высокий детина не дал ему вымолвить ни слова.
– Говорят тебе, иди своей дорогой, – повысил голос турок.
– Нет, так нельзя! Куда вы его ведете?
– Веду эту собаку, чтобы повесить, как остальных собак, коли хочешь знать.
– Как? Почему? Не может такого быть, чтобы вешали безвинных людей. Я позову каймакама.
Теперь и Колонья повысил голос, не замечая, что все больше входит в раж.
В толпе поднялся гул. С двух минаретов, рядом и подальше, раздавались, переливаясь и скрещиваясь, напряженные голоса двух муэдзинов, призывающих верующих на молитву. Толпа стала расти.
– Ну, раз отыскался защитник вроде тебя, – крикнул высокий турок, – так я его здесь и повешу, на этом вот тутовом дереве.
– Нет. Не посмеешь. Я кликну караульного, пожалуюсь каймакаму. Ты кто такой? – кричал старик резко и бессвязно.
– А тот, кто тебя не боится; убирайся с глаз долой, пока шкура цела!
В толпе послышались ругательства и возгласы. Люди сбегались со всего базара. Во время перебранки высокий турок после каждого выкрика оглядывался кругом, дожидаясь поощрения. Собравшиеся, не двигаясь, смотрели на него с явным одобрением.
Высокий турок направился к тутовому дереву у дороги, за ним двинулась толпа, а с ней и Колонья. Теперь уже все кричали и размахивали руками. Кричал, не умолкая, и Колонья, но его не слушали и перебивали.
– Мошенничество, наглость, разбой! Вы позорите султана. Разбойники! Потурченцы! – орал старый доктор.
– Замолчи, иначе и ты повиснешь рядом с ним.
– Кто? Я? Посмей только тронуть меня, паршивый потурченец!
Колонья дрыгал ногами, махал руками, словно у него развинтились все суставы. Теперь он и высокий турок очутились в самом центре давки. Фойничанин стоял в стороне, позабытый всеми.
Высокий, покосившись на своих людей, крикнул вызывающе:
– Вы слышали? Он ругал нашу веру и наших святых! Те подтвердили.
– Вешайте обоих сразу. Вокруг Колоньи началась возня.
– Что такое? Веру? Святых? Да я знаю ислам лучше тебя, ублюдок боснийский… Я… я… – кричал Колонья с пеной у рта, совершенно не владея собой.
– Вешайте собаку‑иноверца.
В поднявшейся сутолоке слышались сбивчивые слова Колоньи, похожие на сдавленное хрипение:
– …турок… я турок… почище тебя.
Тут вмешались трое торговцев и вызволили Колонью из толпы. Они выступили свидетелями, что старик дважды громко и ясно объявил, что признает ислам своей верой, а потому он отныне неприкосновенен. Его повели домой бережно и торжественно, как невесту. Да ничего другого не оставалось, так как старик был вне себя, дрожал всем телом и бормотал бессвязные и бессмысленные слова.
Удивленные и разочарованные люди, которые вели Кулиера и были его обвинителями, судьями и палачами, отпустили и его – пусть идет своей дорогой в Фойницу.
Весть о том, что доктор из австрийского консульства принял ислам, быстро распространилась. Даже в этом ополоумевшем городе, где один безумный день сменялся другим, еще более безумным, и где творились такие несуразные вещи, которым нельзя было до конца поверить, весть о том, что Колонья принял ислам, явилась неожиданностью.
Так как никто из христиан не смел выходить на улицу, то слух нельзя было ни проверить, ни расследовать. Консул послал слугу в Долац к Иво Янковичу, но священник принял известие с недоверием и обещал прибыть к консулу, как только волнение немного утихнет, может быть, даже завтра.
По распоряжению консула Ротта под вечер отправился к дому Колоньи, расположенному на каменистой круче. Вернулся он через полчаса, бледный и против обыкновения молчаливый. Он был напуган неизвестными людьми дикого вида, вооружеными до зубов, кричавшими ему прямо в лицо: «Принимай мусульманскую веру, гяур, пока не поздно!» Они вели себя словно пьяные или потерявшие рассудок. Но еще сильнее поразило его то, что он нашел у Колоньи.
Шагнув в Дом, откуда навстречу ему вышли вполне мирно настроенные и безоружные турки, он увидел встревоженного албанца, слугу Колоньи. В прихожей был беспорядок. Пол залит водой, а из глубины доносился голос Колоньи.
Старик ходил по комнате в сильном волнении; всегда серое, бескровное лицо его покраснело, нижняя челюсть дрожала. Прищурившись, как смотрят вдаль, он глядел на переводчика долгим, пронизывающим и враждебным взглядом. Ротта не успел договорить, что пришел по поручению генерального консула узнать, что тут случилось, как Колонья взволнованно перебил его:
– Ничего, ничего не случилось и не случится. Прошу обо мне не беспокоиться. Я свою позицию хорошо защищаю. Стою тут и защищаю как хороший солдат.
Старик остановился, порывисто вскинул голову, выпятил грудь и прерывающимся шепотом повторил:
– Да, тут стою. Тут, тут.
– Стойте… стойте… господин доктор, – залепетал суеверный и трусливый Ротта, сразу лишившийся обычной своей наглой самоуверенности. Он попятился и, не спуская глаз с доктора, дрожащей рукой нащупал сзади ручку двери, не переставая твердить: – Вы стойте, стойте…
Но старик, неожиданно изменив напряженную позу, вдруг доверительно и мягко нагнулся к перепуганному Ротте. На лице у него, вернее в глазах, появилась многозначительная и торжествующая улыбка. И, будто сообщая великую тайну, он тихо промолвил, грозя пальцем:
– Магомет говорит: «Дьявол вместе с кровью вращается в теле человека». Но Магомет говорит также: «Воистину, вы узрите господа своего, как видите луну в полнолуние!»
При этих словах он резко отпрянул и принял серьезный и обиженный вид. А толмач, который и от гораздо меньшего пришел бы в смертельный ужас, воспользовавшись моментом, неслышно отворил дверь и, словно тень, скрылся в прихожей, не простившись.
На дворе сияла луна. Ротта бежал по переулкам, пугаясь каждой тени и все время чувствуя, как по спине у него пробегают мурашки. Но, и вернувшись домой и представ перед консулом, он все еще не мог прийти в себя и объяснить, что же такое случилось с Колоньей. Он только упорно повторял, что доктор сошел с ума, а на вопросы консула, на чем основано такое заключение, отвечал:
– Сумасшедший, сумасшедший! Как только человек начинает говорить о боге и дьяволе, значит, он сумасшедший. Но надо было его видеть, надо было его видеть, – продолжал твердить Ротта.
К вечеру весь город облетела весть, что доктор австрийского консульства открыто выразил желание перейти в ислам и что уже завтра состоится торжественная церемония. Но этому не суждено было осуществиться, и потому никто не узнал правды о вероотступничестве доктора.
На другой день быстрее первой разнеслась весть, что утром Колонью нашли мертвым на садовой дорожке у ручья под скалой, на которой стоял его дом. У старика была прошиблена голова. Слуга‑албанец не мог объяснить, когда Колонья вышел ночью и как оказался в обрыве.
Узнав о смерти доктора, долацкий священник спустился в Травник разузнать насчет похорон. Рискуя подвергнуться нападению со стороны возбужденной толпы, фра Иво достиг докторского дома, но долго там не задержался. При всей своей толщине, он быстро и легко скатился по крутой тропинке мимо дубинок и алебард воинственно настроенных турок, не давших ему заглянуть в дом. Покойника уже обрядил ходжа, так как упомянутые три горожанина подтвердили, что доктор трижды добровольно и во всеуслышание заявил, что готов принять ислам и что он теперь куда более настоящий мусульманин, чем многие потурченные в городе. И Ротта, придя с телохранителем Ахметом после известия о смерти доктора, смог увидеть лишь нескольких суетившихся перед его домом турок; с тем он и вернулся в консульство. Ахмет остался на похороны.
Случись это в другое время, хотя бы чуть поспокойнее, и будь в Конаке кто‑нибудь из старших начальников, в дело вмешались бы духовные и светские власти, австрийское консульство действовало бы решительнее, священник сумел бы проникнуть к влиятельным туркам, и судьба несчастного Колоньи разъяснилась бы. Теперь же, при всеобщем помешательстве и безвластии, никто никого не слушал и не понимал. Волнение, начавшее было утихать, нашло себе новую пищу – толпа ухватилась за труп старика как за счастливо подвернувшийся трофей. И она не выпустила бы его из своих рук без казней и кровопролития.
Доктора похоронили около полудня на одном из зеленых холмов крутого турецкого кладбища. Хотя базар был еще закрыт, многие турки покинули свои дома, чтобы присутствовать на похоронах доктора, принявшего ислам столь необычным и неожиданным образом. Но больше всего было вооруженной голытьбы из тех, кто вчера собирался его повесить. Сосредоточенные и мрачные, турки, сменяясь необыкновенно быстро и ловко, несли покойника, так что табут с завернутым телом буквально скользил по плечам, которые они непрерывно подставляли.
Так крупный мятеж завершился неожиданным и волнующим событием. Сербов перестали подвергать казням. Словно после похмелья, на всех в городе напало смущение и каждый старался как можно скорее забыть происшедшее; толпы самых ярых крикунов и отъявленных подстрекателей отхлынули в отдаленные кварталы, как река в свое русло, и водворился прежний порядок, казавшийся теперь каждому, хотя бы на некоторое время, лучше и терпимее. Травник был объят тяжелой, ровной тишиной, словно никогда и не нарушавшейся.
Возвращение Сулейман‑паши Скоплянина ускорило процесс успокоения. Всюду чувствовались его твердое слово и умелая рука.
Сразу по приезде Сулейман‑паша созвал наиболее видных городских торговцев и потребовал у них отчета, что они сделали с мирным городом и его мирными жителями. Он стоял перед ними в простой одежде, похудевший после похода, высокий, с тонкими и выпирающими, как у породистой борзой, ребрами, с большими голубыми глазами, расспрашивая и браня их, как детей. Этот человек, который провел шесть недель в настоящем походе, а потом две недели в своих владениях на Купресе, строго смотрел па бледных, измученных, быстро протрезвившихся людей и резким голосом спрашивал их, с каких это пор базар получил право творить суд и расправу, кто дал им это право и о чем они думали последние десять дней.
– Райя, говорите вы, вышла из повиновения, непослушна и ленива. Согласен. Но ведь райя не дышит сама по себе, а прислушивается к дыханию своего господина. Это вам хорошо известно. Всегда сперва портятся господа, а райя лишь подражает им. А если райя вдруг выйдет из повиновения и обнаглеет, брось ее и ищи себе другую, потому что от этой уже толку не будет.
Сулейман‑паша говорил как человек, который только вчера еще был свидетелем серьезных и трудных дел, о которых недалекие травницкие торговцы понятия не имели, а потому многое приходилось им разъяснять.
– Бог – честь и хвала ему! – дал нам две привилегии: владеть землей и вершить суд. Ну, а теперь попробуй подожми ноги на подушке и предоставь всяким потурченцам и голодранцам творить суд и расправу, вот кметы и начнут бунтовать. Кметы должны работать, а хозяин – смотреть за ними, потому что и траве нужна и роса и коса. Одно без другого немыслимо. Погляди на меня, – не без гордости обратился он к стоявшему ближе всех, – мне пятьдесят пять лет, а я еще могу до обеда объездить все мои имения вокруг Бугойна. И нет у меня плохих и непослушных кметов.
И действительно, его длинная шея и жилистые руки были обожжены солнцем и грубы, как у поденщика.
Никто не смог ему ничего ответить, но каждый норовил как можно скорее убраться подобру‑поздорову, забыть о том, что было, и постараться быть забытым.
Как только волнение стало ослабевать, фон Миттерер начал расследовать дело о непонятном переходе Колоньи в магометанство и его таинственной гибели. Делал он это не ради самого Колоньи, которого и раньше считал невменяемым и не подходящим к службе. Хорошо зная его, фон Миттерер допускал, что доктор был способен в пылу ссоры вдруг объявить себя мусульманином; допускал и то, что он покончил жизнь самоубийством или, потеряв сознание, свалился в обрыв. Теперь, когда волнение улеглось и все приняло другой вид, а люди изменили образ мыслей и поведение, трудно было провести расследование того, что случилось при совершенно иных обстоятельствах, в атмосфере всеобщего безумия, крови и мятежа.
Но фон Миттерер должен был предпринять эти шаги ради престижа империи и дабы пресечь возможность нового нападения на австрийских подданных или служащих консульства. Да и священик Иво Янкович в интересах католического мира подбивал его требовать разъяснения об отступничестве и похоронах Колоньи.
Сулейман‑паша, единственный в Конаке, кто симпатизировал фон Миттереру и всегда благоволил к нему больше, чем к Давилю (ему не нравилась внешность Давиля и то, что с ним он принужден был говорить через переводчика), старался угодить австрийскому консулу. Но в то же время он искренне советовал не обострять дела и не заходить чересчур далеко.
– Я понимаю, что вы должны охранять интересы ваших подданных, – говорил он консулу тем холодным, рассудительным и размеренным тоном, который все, да и он сам, считали непогрешимым, – понимаю, что иначе и быть не может. Только стоит ли связывать престиж императора с каждым из его подданных. Люди ведь бывают всякие, а престиж у императора один‑единственный.
Сулейман‑паша сухо и холодно изложил ему возможный исход дела, который удовлетворит всех.
Вопроса о том, принял Колонья турецкую веру или нет, лучше всего не поднимать, ибо мятеж был так силен, что нельзя было отличить не только потурченца от правоверного турка или одну веру от другой, но даже день от ночи. А, по совести говоря, человек‑то был такой, что от его отступничества и христианство много не потеряло, и турецкая вера не приобрела.
Что же касается темных обстоятельств его смерти сразу после столь непонятного перехода в ислам, то об этом следует расспрашивать еще меньше. Мертвые ведь не говорят, а человек, у которого ум за разум зашел и который не смотрит, куда ступает, может всегда поскользнуться. Это самое естественное решение, ни для кого не обидное. К чему выискивать другие возможности, в которых никогда нельзя будет полностью удостовериться и на которые консульство никогда не сможет получить удовлетворительного ответа.
– Я не в состоянии разыскать и взять под стражу тех бродяг и дурней, которые взялись творить суд и расправу в Травнике и переводить людей в турецкую веру, – сказал в заключение Сулейман‑паша, – вы же не можете поднять и расспросить покойника, лежащего на турецком кладбище. Теперь уж ничего не исправишь. Лучше оставить это и заняться более полезными делами. А ваша забота мне понятна, как моя собственная. Поэтому я прикажу расследовать и разъяснить смерть доктора, чтобы всем было понятно, что тут никто не виноват. Все это, ясно изложенное и подтвержденное, вы пошлете своему начальству, так что ни у вас, ни у нас не останется никакого сомнения и ничто не вызовет никаких нареканий.
Фон Миттерер и сам понимал, что если это и не лучшее, то, во всяком случае, единственно возможное решение. Но он все же попросил помощника визиря отдать еще коекакие приказания и распоряжения, которые издали могли сойти как удовлетворительные и оправдательные для консульства.
Все это вместе с донесением Ротты о его последнем свидании с Колоньей могло более или менее успокоить Вену, предоставив дело Колоньи как несчастный случай со свихнувшимся человеком, и спасти престиж консульства. Но в душе фон Миттерер был недоволен ходом событий и самим собой.
Бледный, одинокий, сидя в полутемном кабинете и размышляя обо всем этом, он чувствовал себя безоружным и беспомощным перед целой цепью разнообразнейших обстоятельств; он честно, со всей преданностью исполнял свой долг, работал сверх сил, ясно понимая, что все это напрасно и безнадежно.
На дворе стояла июльская жара, а полковник дрожал и чувствовал порой, что и сам теряет сознание и падает в бездонную пропасть.
XVII
Этот второй и более страшный мятеж совершенно не коснулся французского консульства. Наоборот, центром его под конец стало австрийское консульство с доктором Колоньей. Тем не менее и во французском консульстве проводили дни и ночи без сна. За исключением двух коротких выходов Дефоссе, никто за эти несколько дней не смел даже показаться у окна. И для Давиля этот мятеж был мучительнее первого, так как к событиям такого рода человек не привыкает, а, наоборот, с каждым разом переносит их все труднее.
Как и во время первого мятежа, Давиль думал бежать из Травника, чтобы спасти жизнь и семью. Запершись в своей комнате, он предавался тягостному раздумью, предвидя самые мрачные возможности. Но перед прислугой и служащими, да и перед женой ничем не выдавал ни своих намерений, ни своего настроения.
Но даже и это общее несчастье не могло сблизить консула с его первым помощником. По нескольку раз в день он заводил разговор с Дефоссе (укрывшись в доме, они встречались чаще прежнего). Но ни один из этих разговоров не кончался хорошо и не приносил успокоения. Помимо всех прочих забот, сомнений и разочарований, Давиль ежеминутно должен был повторять себе, что живет бок о бок с чужим человеком, от которого его наглухо отделяют понятия и привычки. Даже несомненно хорошие стороны молодого человека: храбрость, самоотверженность, присутствие духа, особенно выявившиеся при таких обстоятельствах, – не могли привлечь Давиля. Ибо и достоинства человека мы принимаем и вполне ценим, только если они проявляются в форме, отвечающей нашим понятиям и склонностям.
Давиль, как и прежде, глядел на происходящее с чувством горечи и презрения, объясняя все прирожденной озлобленностью и варварским образом жизни этого народа, и заботился единственно о том, как при таких обстоятельствах спасти и защитить интересы Франции. Дефоссе, напротив, с объективностью, поражавшей Давиля, анализировал окружающие явления, стараясь найти причину и объяснение им как в них самих, так и в породивших их обстоятельствах, не принимая в расчет, вредны или полезны, приятны или не приятны они лично ему и консульству. Эта холодная, безразличная объективность всегда смущала Давиля и вызывала в нем раздражение, тем более что он не мог одновременно не видеть в ней свидетельства превосходства молодого человека. В нынешних условиях эта объективность была ему еще неприятней, и он с трудом выносил ее.
Всякий разговор, служебный, полуслужебный или неслужебный, порождал у Дефоссе множество ассоциаций, обобщений и трезвых умозаключений, а у консула – раздражение и оскорбленное молчание, которого молодой человек даже не замечал.
Этот сын богатых родителей, разносторонне одаренный, рассуждал как миллионер и вел себя смело, своенравно и расточительно. Для консульства Давиль не извлекал из него большой пользы. Хотя по должности в обязанность Дефоссе входило начисто переписывать донесения консула, Давиль избегал поручать ему эту работу. Его всегда удерживало опасение, что молодой человек, ум которого обладал, по‑видимому, особой остротой, переписывая рапорт консула, отнесется к нему критически. Сердясь на самого себя, Давиль против собственной воли каждую третью фразу мысленно отдавал на суд своему сотруднику. И потому он предпочитал в конечном счете важные донесения писать и переписывать собственноручно.
Короче говоря, во всех делах и, что еще важнее, во всех тревожных переживаниях, связанных с новым походом Наполеона на Вену, Дефоссе был ему не помощником, а часто неприятной обузой. Они были настолько чужды друг другу, что не могли разделить даже радость. Когда в половине июля, почти одновременно с окончанием мятежа, пришла весть о победе Наполеона при Ваграме и вскоре после этого о перемирии с Австрией, для Давиля наступила, как это бывало периодически, полоса просветления. Ему казалось, что все обернулось счастливо и завершилось благополучно. Единственно, что портило ему хорошее настроение, было равнодушие Дефоссе, который не выражал восторга по поводу успеха, так же как не испытывал сомнений и страха, предшествовавших этому успеху.
Для Давиля была мучительно непонятна всегда одна и та же умная и равнодушная улыбка на лице молодого человека. «Точно он абонировался на победы», – говорил Давиль своей жене, так как ему некому было больше пожаловаться, а молчать было невтерпеж.
Снова наступили жаркие и роскошные травницкие дни конца лета, самые чудесные для тех, кому всегда хорошо, и наименее трудные для тех, кому плохо и летом и зимой.
В октябре 1809 года в Вене был заключен мир между Наполеоном и венским двором.[63] Были образованы Иллирийские провинции, куда вошли Далмация и Лика, то есть сфера деятельности Давиля. В Любляну, главный город новой Иллирии, прибыли генерал‑губернатор и главный интендант с целым штабом полицейских, таможенных и податных чиновников, которые должны были наладить управление и в особенности торговлю и связи с Ближним Востоком. Еще до этого генерал Мармон, вовремя подоспевший к битве под Ваграмом, получил звание маршала. Наблюдая за всем этим, Давиль испытывал грустное и приятное чувство человека, содействовавшего победе и славе других, но оставшегося в стороне от славы и наград. Это чувство нравилось ему и облегчало трудности травницкой жизни, которых никакие победы не в состоянии были серьезно изменить.
Как и раньше, Давиля мучил один вопрос – и в этом он никому не смел и не мог признаться, – вопрос о том, окончательная ли это победа и как долго продлится мир?
На этот вопрос, от которого зависело не только его спокойствие, но и судьба его детей, он нигде не находил ответа, ни в самом себе, ни у окружающих.
На одном особо торжественном приеме Давиль познакомил визиря с подробностями наполеоновских побед и статьями венского мира, в особенности с теми, которые касались стран, непосредственно соседствующих с Боснией. Визирь поздравил с победами и выразил удовлетворение тем, что их добрососедские отношения упрочатся и теперь, под французским управлением, в странах вокруг Боснии воцарятся мир и порядок.
Но в устах визиря все эти слова «война», «мир» и «победа» звучали как‑то мертво и словно бы издалека, и произносил он их холодным и жестким голосом, с окаменелым лицом, будто дело шло о событиях далекого прошлого.
Тахир‑бег, тефтедар визиря, с которым Давиль беседовал в тот же день, был гораздо общительнее и разговорчивее. Он расспрашивал о положении в Испании, интересовался подробностями организации управления новыми Иллирийскими провинциями. Ясно было, что он хотел получить сведения и сравнить их с теми, что у него имелись, но из его любезной словоохотливости и умного любопытства нельзя было извлечь больше, чем из молчаливого и полнейшего равнодушия визиря. Из его слов можно было лишь понять, что он не видит конца войнам и наполеоновским завоеваниям. А когда Давиль попытался заставить его выразиться яснее, тефтедар уклонился от ответа.
– Ваш император победитель, а победителя все видят в ореоле блеска, или, как говорит персидский поэт, «лицо победителя подобно розе», – закончил тефтедар с лукавой улыбкой.
Давиль всегда ощущал какую‑то необъяснимую неловкость от странной улыбки, никогда не сходившей с лица тефтедара, от которой глаза его становились дьявольски прищуренными и чуть раскосыми. И после каждого разговора с ним Давиль чувствовал себя смущенным и как бы обокраденным. Каждый такой разговор вместо ожидаемого решения и ответа пугал его новыми вопросами и новыми неясностями. А это был единственный человек в Конаке, желавший и умевший вести деловые разговоры.
Как только был заключен мир, общение между консульствами возобновилось. Консулы стали обмениваться визитами и велеречиво выражать свою неуверенную радость по случаю мира, скрывая под этим подчеркнутым воодушевлением смущение по поводу всего, что каждый из них предпринимал друг против друга в последние месяцы. Давиль старался не обидеть фон Миттерера поведением победителя, не желая в то же время терять преимуществ, даваемых победой. Полковник судил обо всем с большой осторожностью, как человек, желающий возможно меньше сосредоточиваться на сегодняшних неприятностях, возлагая все надежды на будущее. Оба скрывали свои истинные мысли и самый неподдельный страх под покровом меланхолических разговоров, к каким часто прибегают пожилые люди, еще ожидающие чего‑то от жизни, но сознающие свою беспомощность.
Госпожа фон Миттерер еще не виделась с госпожой Давиль и счастливо избегала встреч с Дефоссе, который, конечно, еще весной «умер» для нее и почивал в обширном некрополе остальных ее разочарований. Во время похода на Вену она упрямо и навязчиво была «всей душой на стороне великого и несравненного корсиканца», чем омрачала фон Миттереру и дни и ночи. Даже в четырех стенах своей спальни консул не выносил неосторожных разговоров, и каждое неуместное слово вызывало у него физическую боль.
В это лето Анна Мария вновь вернулась к своей давнишней страсти – любви к животным. На каждом шагу прорывалась ее чрезмерная и болезненная жалость к тягловому скоту, собакам, кошкам и прочим домашним животным. Вид облезлых, измученных малорослых волов, устало переступающих своими тонкими ногами, их кроткие глаза, облепленные роями мух, вызывали у Анны Марии настоящий нервный припадок. Повинуясь своей страстной натуре, она проявляла заботу об этих животных при всех обстоятельствах, в любом месте, без всякой меры и осмотрительности, что доставляло ей новые разочарования. Она собирала хромых собак и паршивых кошек, лечила их и ухаживала за ними. Кормила птиц, и без того веселых и сытых. Накидывалась на крестьянок, носивших кур подвешенными за ноги через плечо. В городе останавливала переполненные повозки и перегруженных лошадей, требовала от крестьян, чтобы они сняли часть поклажи, смазали животным раны, подправили врезавшийся хомут или ослабили тугую подпругу.
Все это были невозможные и немыслимые для данной страны вещи, которые приводили к смешным сценам и неприятным столкновениям.
Однажды госпожа фон Миттерер заметила на крутой улице длинную повозку, верхом нагруженную мешками с зерном. Два вола тщетно старались втащить груз в гору. Тогда привели еще клячу, впрягли ее впереди волов и стали, понукая, гнать животных. Крестьянин, шагавший рядом с волами, хлестал их то по впалым бокам, то по мягкой морде, а лошадь стегал бичом здоровенный турок, загорелый, с обнаженной грудью, некий Ибро Жвало, последний человек в городе, пропойца возчик, иногда исполнявший должность палача и тем отнимавший заработок у цыган.
Волы и лошадь никак не могли совместить свои усилия и дернуть разом. Крестьянин то и дело подкладывал камень под заднее колесо. Животные тяжело дышали и вздрагивали. Возчик хрипло ругался, уверяя, что левый вол нарочно не желает тянуть. Их перепрягли, но тот же вол, ослабев, упал на передние ноги. Второй вол и лошадь продолжали тянуть. Взвизгнув, Анна Мария подбежала и начала кричать на возчика и крестьянина; глаза ее были полны слез. Крестьянин снова подложил камень и смущенно смотрел на чужестранку. Но Жвало, потный и обозленный на вола, который, по его мнению, лишь притворялся, что тянет, согнутым указательным пальцем стер со лба пот, стряхнул его на землю, обругал нищих и тех, кто их плодит, и, сосредоточив весь свой гнев на жене консула, двинулся прямо на нее с бичом в левой руке:
– Хоть ты, баба, убирайся с глаз долой, не изводи меня, иначе, ей‑богу… я тебя…
И возчик замахнулся бичом. Вплотную перед собой Анна Мария увидела искаженное, в морщинах и шрамах, потное и грязное лицо Жвало, с гримасой гнева и злобы, но больше всего усталости, отчего оно казалось плачущим; такие лица можно наблюдать на состязании бегунов среди победителей. В этот момент подбежал перепуганный телохранитель, оттолкнул обезумевшего возчика и отвел домой жену консула, навзрыд плакавшую от бессильной ярости.
Двое суток Анна Мария дрожала при воспоминании об этой сцене и со слезами просила консула, чтобы он потребовал строго наказать этих людей за жестокость и за оскорбление жены консула. По ночам, вся дрожа, она вскакивала с постели и с криком отгоняла от себя лицо Жвало.
Фон Миттерер ласково успокаивал жену, хотя знал, что ничего сделать не может. Овес, который везли в тот раз, предназначался для амбара визиря. Жвало был ничего не значащим ничтожеством, вступать в препирательство с которым не следовало. А главное, виновницей всему была его собственная жена, нелепо вмешавшаяся, как бывало столько раз при других обстоятельствах, в дела, которые ее не касались, и теперь, как обычно, не желавшая слышать никаких доводов и объяснений. Поэтому консул успокаивал ее, как только мог, словно ребенка, обещая сделать все, терпеливо выслушивал упреки и оскорбления по своему адресу, надеясь, что жена позабудет свою манию.
Во французском консульстве новость.
Госпожа Давиль на четвертом месяце беременности. Почти не изменившаяся, хрупкая и легкая, она быстро и неслышно двигалась по большому дому и саду, приготовляла, закупала, планировала и распоряжалась. Своего четвертого ребенка она носила тяжело. Но хлопоты и физическое недомогание отвлекали от мысли о скоропостижной смерти сына, о котором она непрестанно думала, хотя никогда не говорила.
Молодой Дефоссе доживал в Травнике последние дни. Он ждал только приезда первого курьера из Стамбула или из Сплита в Париж, чтобы отправиться с ним вместе. Он был переведен в министерство, но его известили, что в течение этого же года он будет назначен в посольство в Стамбул. Материал для книги о Боснии был уже готов. Дефоссе был доволен, что познакомился с этой страной, и счастлив, что мог ее покинуть. Он боролся с ее тишиной, с ее многочисленными бедами и теперь уезжал несломленный и бодрый.
Перед отъездом, в праздник рождества богородицы, он вместе с госпожой Давиль, посетил монастырь в Гуча‑Горе. Из‑за совершенно испортившихся отношений между консульством и монахами Давиль не захотел с ними ехать. А отношения действительно стали более чем прохладными. Распри между правительством Французской империи и Ватиканом достигли в то время своей вершины. Папу заточили, Наполеона отлучили от церкви, монахи уже много месяцев не посещали консульства. И тем не менее благодаря госпоже Давиль гучегорские монахи приняли их хорошо. Дефоссе в душе не мог не удивляться, как монахи умели отделять свое личное отношение к гостям от того, к чему их обязывает положение и правильно понятый долг. В их поведении было столько скромности и оскорбленной сдержанности, сколько требовало их достоинство, и столько сердечности, сколько требовали правила старинного гостеприимства и гуманности, которые должны преобладать над всеми мимолетными столкновениями и преходящими положениями. В том и другом соблюдалось чувство меры, и в общей сложности все выражалось в непринужденности и свободной, естественной манере обращения. Никак нельзя было ожидать столько любезности и врожденного такта от этих грубых, отяжелевших и своенравных людей со свисающими усами и смешно остриженными круглыми головами.
Дефоссе имел возможность еще раз наблюдать крестьян‑католиков, поближе познакомиться с жизнью монаховфранцисканцев «боснийского образца» и еще раз поговорить и поспорить со своим «уважаемым противником» фра Юлианом.
Был теплый и погожий праздничный день, лучшее время года, когда фрукты созрели, а деревья еще зеленые. Громоздкая побеленная монастырская церковь быстро наполнялась крестьянами в чистых праздничных одеждах, преимущественно белых. Перед началом большой мессы вошла в церковь и госпожа Давиль. Дефоссе остался в сливовом саду с фра Юлианом, который был в тот день свободен. Они прогуливались, занятые разговором.
Как при каждом свидании, они толковали о взаимоотношениях церкви и Наполеона, о Боснии, о призвании и роли монахов, о судьбе этого народа, состоявшего из людей различных вероисповеданий.
Окна в церкви были открыты, и оттуда по временам доносились то звон колокольчика, то глухой старческий голос настоятеля, служившего мессу.
Молодые люди наслаждались дискуссией, как здоровые дети – игрой. А споры их, которые велись на плохом итальянском языке, были полны наивности, смелых утверждений и бесплодного упрямства, вертелись всегда в одном кругу и неизменно возвращались к исходному пункту.
– Не можете вы нас понять, – твердил монах на все замечания молодого человека.
– Думаю, что за это время мне удалось достаточно хорошо узнать условия жизни в вашей стране, и, не в пример многим другим иностранцам, я сумел разглядеть все ценное, что в ней кроется, и правильно отнестись к недостаткам и отсталости, которые иностранец так быстро замечает и столь легко осуждает. Но позвольте вам сказать, что мне часто непонятна позиция, которую занимаете вы, монахи.
– Я же говорю, что вам этого не понять.
– Нет, я понимаю, фра Юлиан, но того, что вижу и понимаю, не могу одобрить. Вашей стране нужны школы, дороги, врачи, общение с остальным миром, деятельность, движение. Знаю, что, пока властвуют турки и пока между Боснией и Европой не восстановится связь, вы не сумеете ничего этого добиться и осуществить. Но вам как единственно образованным людям в стране следовало бы подготавливать народ и настраивать его в таком направлении. А вместо этого вы защищаете феодальную, консервативную политику реакционных европейских держав и хотите связать себя с той частью Европы, которая осуждена на гибель. А это непонятно, потому что народ ваш, не обремененный ни традициями, ни сословными предрассудками, должен был бы, судя по всему, оказаться на стороне свободных и просвещенных государств и сил Европы…
– Кому нужно просвещение без веры в бога? – перебил его монах. – Такое просвещение и в Европе не продержится долго, да и сейчас приносит лишь беспокойства и несчастья.
– Ошибаетесь, дорогой фра Юлиан, глубоко ошибаетесь. Такое беспокойство не повредило бы и вам здесь. Вы видите, что народ в Боснии исповедует три или даже четыре веры, разъединен кровной враждой, а в целом отгорожен непроходимой стеной от Европы, то есть от всего остального мира и жизни. Смотрите, как бы на вас, монахов, не пал исторический грех, что вы этого не поняли и повели свой народ по неправильному пути, не подготовив его вовремя к тому, что его неминуемо ожидает. Среди христиан Оттоманской империи все чаще раздаются голоса о свободе и освобождении. И, конечно, настанет день, когда и в эти края придет свобода. Но давно уже известно, что недостаточно получить свободу, гораздо важнее стать достойным ее. Для вас, лишенных современного воспитания и свободолюбивых дерзаний, не будет толка, если вы освободитесь от турецкой власти. В течение столетий ваш народ во многом настолько уподобился своим угнетателям, что извлечет мало пользы, если в один прекрасный день турки уйдут, наградив его, помимо недостатков райи, еще и собственными пороками: леностью, нетерпимостью, склонностью к насилию и культу грубой силы. Это, в сущности, и нельзя было бы считать освобождением, потому что вы не были бы достойны свободы, не сумели бы ею насладиться, а либо сами превратились бы в рабов, либо, подобно туркам, стали бы порабощать других. Нет сомнения, что когда‑нибудь и ваша страна войдет в состав Европы, но может случиться, что войдет разделенной и обремененной доставшимися ей по наследству понятиями, привычками и инстинктами, везде уже изжитыми, которые, подобно призракам, будут мешать ее нормальному развитию и сделают из нее диковинное чудовище и предмет добычи для любого, как теперь она является добычей для турок. А народ этого не заслуживает. Ведь ни один народ, ни одна страна Европы не кладут в основу своего прогресса веру…
– В том‑то и несчастье.
– Несчастье жить так, как вы живете…
– Несчастье жить без бога и изменить вере отцов. А мы, при всех наших ошибках и пороках, не изменили ей, и о нас можно сказать: «Multum peccavit, sed fidem negavit»,[64] – прервал собеседника фра Юлиан, удовлетворяя свою страсть к цитатам.
Спор их возвращался к исходной точке. Оба верили в то, что доказывали, но ни один не выражался ясно и не слушал, что говорил другой.
Дефоссе остановился у старой корявой сливы, покрытой толстым слоем зеленоватого лишая.
– Неужели вам никогда не приходило в голову, что разноплеменные инаковерующие народы, находящиеся под турецкой властью, когда‑нибудь, после того как Оттоманская империя падет и уйдет из этих краев, должны будут найти общую, более широкую, более совершенную, разумную и человечную основу для своего существования…
– У нас, католиков, давно уже есть такая основа. Это Credo[65] римско‑католической церкви. Лучшей нам и не надо.
– Но вы же знаете, что не все ваши соотечественники в Боснии и на Балканах принадлежат к этой церкви, да и никогда не будут принадлежать к ней одной. Вы видите, что никто в Европе уже не объединяется на этой основе. А потому надо искать другой общий знаменатель.
Донесшееся из церкви пение прервало их разговор. Сперва слабо и несогласно, но постепенно все стройнее и уверенней пели женщины и мужчины по‑деревенски в унисон и протяжно:
– Здраааво тело Иисуса…
Пение раздавалось все громче. Низкая массивная церковь без колокольни, покрытая черной деревянной крышей, слегка осевшая к фасаду, вся дрожала и звенела от голосов и была похожа на корабль, полный невидимых певцов, который с распущенными по ветру парусами несся по волнам. Собеседники умолкли на минуту. Дефоссе хотелось знать слова молитвы, которую народ пел с таким воодушевлением. Монах переводил ему каждое слово. По смыслу молитва напоминала древнее церковное песнопение:
Ave verum corpus natum
De Maria virgine…
Пока монах подбирал слова второй строфы, Дефоссе рассеянно прислушивался, воспринимая лишь тягучую, монотонную, печальную и примитивную мелодию, казавшуюся ему то блеянием огромного стада овец, то воем ветра в дремучем лесу. И все спрашивал себя, возможно ли, что причитание священника, доносившееся из приземистой церкви, выражает ту же мысль и ту же веру, что и пение упитанных и образованных каноников или бледных семинаристов во французских соборах. «Urjammer», – подумал Дефоссе, вспомнив, как Давиль и фон Миттерер отозвались о песне Мусы, и нехотя двинулся в глубину сада, спасаясь от мелодии, подобно тому как человек отворачивается от невыразимо грустного пейзажа.
Там Дефоссе с монахом продолжали разговор, обмениваясь колкими замечаниями, после которых каждый оставался при своем мнении.
– С тех пор как я приехал в Боснию, меня интересует вопрос, как это вы, монахи, видевшие свет и учившиеся в школах, люди по существу добрые и подлинные альтруисты, не умеете смотреть на вещи шире и свободнее, не понимаете требований времени и не чувствуете назревшей необходимости подходить к человеку как к таковому, дабы совместными усилиями найти более достойный и здоровый образ жизни…
– С якобинскими клубами!
– Но во Франции, фра Юлиан, давно уже нет якобинских клубов!
– Нет потому, что они перекочевали в министерства и школы.
– А у вас‑то нет ни школ и ничего в этом роде, и, когда в один прекрасный день цивилизация дойдет до вас, вы не сможете ею воспользоваться и останетесь раздробленной, растерянной, бесформенной массой, без цели и направления, без органической связи с человечеством, со своими соотечественниками и даже с ближайшими согражданами.
– Но с верой в бога, сударь.
– С верой, с верой! Не вы одни верите в бога. Верят миллионы людей. Каждый по‑своему. Но это не дает права обособляться и замыкаться в какой‑то нездоровой гордыне, отвернувшись от остального человечества, а часто и от самых близких людей.
Народ начал выходить из церкви, хотя пение крестьян еще продолжалось и походило на постепенно стихающий гул колокола. Появление госпожи Давиль прервало эту бесконечную дискуссию.
Пообедали в монастыре, а потом тронулись в обратный путь. Фра Юлиан и Дефоссе препирались еще и за столом. А затем расстались навсегда, простившись как лучшие друзья.
Давиль повел Дефоссе к визирю с прощальным визитом. Таким образом, молодой человек еще раз увидел Ибрагимпашу. Визирь был мрачнее чем когда‑либо, говорил низким, глухим голосом, медленно выговаривал слова, долго двигая нижней челюстью, словно молол их. Напряженно, почти сердито смотрел он на Дефоссе покрасневшими усталыми глазами. Ясно чувствовалось, что мысли его были далеко, что ему трудно было понять да и не хотелось понимать молодость, которая куда‑то стремится, прощается и уезжает, и что единственным его желанием было освободиться от гостей.
Официальный визит к австрийскому консулу также был краток и сошел гладко. Полковник принял его с грустным достоинством, но любезно и выразил сожаление, что из‑за тяжелой и длительной мигрени госпожа фон Миттерер не может с ним проститься.
С Давилем дело обстояло труднее и скучней. Помимо письменных донесений, Дефоссе поручалось передать много устных, весьма путаных и с разными оттенками. С приближением отъезда поручения эти менялись и сопровождались все новыми оговорками и наставлениями. Под конец Дефоссе уже не мог разобраться, что он должен был говорить о жизни в Травнике и работе в консульстве, ибо консул хотел передать через него бесчисленное множество жалоб, просьб, замечаний и примечаний; часть из них предназначалась лично министру, часть – министру и министерству, часть только Дефоссе, а часть всем вообще. Осторожность, тонкость и педантичность этих бесчисленных поручений приводили молодого человека в замешательство, нагоняли зевоту и заставляли думать о другом.
Дефоссе уехал в конце октября в такой же мороз и раннюю метель, как и приехал.
Из глаз уезжающего Травник скрывается не постепенно, а внезапно, словно проваливается в пропасть. Так он потонул и в памяти молодого человека. Последнее, что он видел, была низкая, похожая на шлем крепость и рядом с ней мечеть со стройным и красивым минаретом, напоминавшим султан на шапке. Направо от крепости, на крутой скале виднелся большой старый дом, где он однажды посетил Колонью.
Удаляясь по ровной и хорошей дороге к Турбету, Дефоссе думал о докторе, о его судьбе и их необычном ночном разговоре.
«…Вы, живя здесь, знаете, что рано или поздно вернетесь на родину, в лучшие условия и к более достойному образу жизни. Вы проснетесь и освободитесь от этого кошмара, мы же никогда, так как это наша жизнь».
Как и в ту ночь, когда они сидели рядом в накуренной комнате, Дефоссе снова ощутил сильное волнение, которым, казалось, был насыщен воздух вокруг доктора, и услышал его доверительный и горячий шепот: «Но в конечном счете все хорошо и все разрешается гармонично».
Так Дефоссе покинул Травник, вспоминая лишь несчастного «иллирийского доктора», мысленно уделив ему одно мгновение.
Но всего лишь мгновение, потому что молодость не любит задерживаться на воспоминаниях и долго предаваться одним и тем же мыслям.
XVIII
Во французском консульстве с самых первых дней установилась атмосфера семейной жизни, той по‑настоящему семейной жизни, столь во многом зависящей от женщины, когда все перемены и удары судьбы не в состоянии побороть реальное ощущение семьи, жизни с рождениями, смертями, мучениями и радостями и неведомыми внешнему миру прелестями. Эта жизнь распространяла свое влияние за пределы консульства и добивалась того, перед чем бессильны были и требования, и подкуп, и уговоры: она хотя бы до известной степени сближала обитателей консульства с жителями города. И это несмотря на всю ненависть, которая, как мы видели, продолжала существовать по отношению к консульству как таковому.
Еще в позапрошлом году, когда так внезапно умер ребенок Давилей, во всех без исключения домах знали об этом несчастье со всеми подробностями, и все приняли в нем живейшее участие. И еще долго спустя люди с симпатией и сочувствием оборачивались вслед госпоже Давиль во время ее редких выходов в город. Кроме того, домашняя прислуга, а затем долацкие и травницкие женщины (в особенности еврейки) по всему городу рассказывали о дружной семейной жизни Давилей, о «золотых руках» госпожи Давиль, об ее сноровке, бережливости, благородстве и чистоте. И даже в турецких домах, где, говоря об иностранных консульствах, суеверно сплевывали, было до мелочей известно, как жена французского консула купает и укладывает спать детей, во что они одеты, как причесаны и какого цвета у них ленточки в локонах.
А потому вполне естественно, что за ходом беременности госпожи Давиль женщины во всех домах следили внимательно и озабоченно, будто дело шло о хорошо знакомой соседке. Гадали, на каком она месяце, пересказывали, как она носит ребенка, насколько изменилась и какие приготовления делает для новорожденного. По одному этому можно судить, что означали роды и материнство в жизни этих людей, столь однообразной и безрадостной.
А когда пришло время, в консульстве появилась старая Матишич, вдова видного, но разорившегося торговца, слывшая лучшей повитухой во всем Долаце. Эта старушка, без которой не обходились ни одни роды в богатых домах, распространила еще больше рассказов о госпоже Давиль как о матери и хозяйке. Она в мельчайших подробностях описывала порядок, удобства и красоту этого дома, чистого, как рай, где так хорошо пахло и где даже самый темный угол был освещен и отоплен: о жене консула, которая до последней минуты, уже лежа в постели и мучимая болями, приказывала и распоряжалась «одними глазами», о ее набожности и необыкновенной терпеливости и, наконец, о поведении консула, полном достоинства и любви, совсем не свойственных нашим мужьям. И еще много лет спустя старая Матишич, успокаивая и стыдя молодых рожениц, чересчур волновавшихся или предававшихся страху, ставила в пример госпожу Давиль.
Ребенок появился на свет в конце февраля; это была девочка.
Тут же началось паломничество из травницких и долацких домов. (И теперь можно было видеть, насколько народ, если и не примирился с существованием консульства, то, во всяком случае, сблизился с семьей Давиля.) Приходили хозяйки из Долаца, румяные и спокойные, в атласных шушунах, двигаясь плавно и степенно, как утки по льду. За каждой из них осторожно шагал прозябший мальчишка с горящими ушами и сосульками под носом, которых он не мог утереть, так как держал на вытянутых руках подарки. Многие жены бегов вместе с дарами присылали и цыганку справиться о здоровье консульши. Подарки выставили в комнате роженицы: круглые противни с баклавой, рулеты с финиками, сложенные в виде поленницы, вышивки и куски шелкового полотна, баклаги и бутыли ракии или мальвазии, заткнутые листьями комнатных цветов.
Госпожа фон Миттерер, выражавшая в свое время сочувствие по поводу смерти мальчика Давилей, теперь приняла живое участие в радостном событии. Она принесла в подарок ребенку красивый и дорогой золотой итальянский медальон, отделанный черной эмалью и бриллиантами, рассказав кстати и путаную трогательную историю этого медальона. Анна Мария заходила несколько раз" и была немного разочарована, что все протекало так просто, легко и гладко, без непредвиденных осложнений и какихлибо поводов к волнению. Она садилась около госпожи Давиль и пространно и несвязно говорила о том, что ожидает в жизни это маленькое существо, о положении женщины в обществе и о судьбе вообще. Утопая в белой кровати, госпожа Давиль, хрупкая и бледная, смотрела на нее и слушала, совсем не вникая в то, что она говорила.
Самый большой и красивый подарок прислал визирь. Это была огромная баклава, покрытая поверх шелкового полотна широким куском розовой парчи из Брусы. Баклаву на огромном подносе несли слуги, а впереди шел чиновник. Так они проследовали через весь базар как раз около полудня.
Давна, всегда бывший в курсе всех дел, узнал и о трудностях, с которыми этот огромный поднос покинул Конак. Препятствия чинил хазнадар. Радеющий по обыкновению о сокращении расходов, Баки старался урезать каждый подарок визиря.
Когда стали выбирать поднос и совещаться, какую ткань послать в подарок, визирь приказал положить баклаву на самый большой поднос, какой только был в Конаке. Баки сперва доказывал, что вообще не надо ничего посылать, так как у французов, мол, нет такого обычая, а когда это не помогло, спрятал самый большой поднос и подсунул другой, поменьше, но слуги Тахир‑бега разыскали первый. Хазнадар визжал тонким голосом, осипшим от злости:
– Берите еще больше! Подарите им весь дом, это будет самое лучшее! Раздарите и раздайте все, и так все льется через край!
Когда он увидел, что на покрывало берут лучший кусок ткани, он снова взвизгнул и повалился на парчу, обернув ее вокруг себя.
– Не смейте, не позволю! Разбойники! Дармоеды! Почему свое не отдаете?
Едва удалось оттащить его от парчи и накрыть ею подарок. А Баки остался, стеная как раненый и проклиная всех консулов и все консульства на свете, все роды и всех рожениц, и глупые обычаи делать подарки, и самого несчастного визиря, который не умеет защищать и хранить то немногое, что у него оставалось, а слушает этого обезумевшего расточителя тефтедара и расшвыривает и раздаривает направо и налево как туркам, так и гяурам.
Ребенка, увидевшего свет во французском консульстве, крестили только месяц спустя, когда спали морозы, которые в этом году наступили лишь в конце зимы. Девочке дали имя Евгения Стефания Аннунциата и записали в книгу крещеных в долацком приходе 25 марта 1810 года, в самый праздник благовещения.
Этот год, спокойный и обещавший много хорошего, каждому принес что‑то из того, чего тот хотел и ожидал.
Фон Миттерер получил наконец ясные инструкции, как он должен вести себя по отношению к французскому консулу. («В личных сношениях быть дружественным, вплоть до сердечности, но не показывать этих отношений ни перед турками, ни перед христианами, проявляя известную холодность, достоинство и сдержанность», и т. д.) Вооруженный этими инструкциями, фон Миттерер вел себя свободнее и до какой‑то степени естественнее. Беда была только с Анной Марией, никогда не признававшей ничьих инструкций и ни в чем не желавшей знать границы и меры.
Помолвка и венчание австрийской принцессы Марии Луизы с Наполеоном стали для Анны Марии предметом большого волнения. Она следила по венским газетам за всеми подробностями церемониала, знала фамилии всех участвующих лиц и помнила каждое слово, которое, согласно газетам, было при этом сказано. А когда она вычитала где‑то, как Наполеон, не дождавшись приезда своей августейшей невесты на условленном месте, помчался ей навстречу в обыкновенном экипаже, инкогнито, и вскочил к ней в карету где‑то посреди дороги, Анна Мария заплакала от восторга и, вихрем ворвавшись в кабинет мужа, объявила, что она права, считая корсиканца необыкновенным человеком и единственным в своем роде примером величия и чувствительности.
Невзирая на то, что была страстная неделя, Анна Мария посетила госпожу Давиль, торопясь рассказать ей обо всем, что узнала и прочла, и поделиться с ней своим восхищением и восторгом.
Госпожа Давиль, пользуясь необыкновенно солнечными апрельскими днями, всецело отдалась работе в саду.
С первого же года после ее приезда все работы в саду и заботы о цветах лежали на глухонемом садовнике Мунибе, прозванном Мунджарой, то есть Немтырем. Госпожа Давиль так к нему привыкла, что с помощью знаков, мимики и пальцев легко договаривалась обо всем, что касалось сада. Да и не только об этом. Они разговаривали и о других вещах: о событиях в городе, о садах в Конаке и австрийском консульстве и, в особенности, о детях.
Мунджара жил со своей молодой женой в одном из бедняцких домов под Осоей. В жилище у него были чистота и порядок, жена была здоровая, красивая и трудолюбивая, но детей у них не было. Это было для них большим горем. Поэтому Мунджара с умилением глядел на детей госпожи Давиль, когда они приходили посмотреть на его работу. Всегда аккуратный, ловкий и проворный, он работал как крот и, не отрываясь от дела, улыбался всем своим загорелым, собиравшимся в складки лицом, как умеют улыбаться только люди, лишенные дара речи.
Госпожа Давиль, в большой садовой соломенной шляпе на голове, стояла возле садовника, следя за унаваживанием, и сама разминала в пальцах комья земли, готовя клумбы для специального сорта гиацинтов, который ей удалось получить этой весной. Когда ей доложили, что госпожа фон Миттерер собирается к ней с визитом, она приняла это известие, как принимают сообщение о помехе или непогоде, и пошла переодеться.
В светлом и теплом уголке, где окна были занавешены, а стены обтянуты белым полотном, дамы сели, чтобы обменяться бесчисленным количеством слов и прекрасных чувств. Анна Мария говорила за обеих; госпожа Давиль была прямо‑таки подавлена ее разговорчивостью и сентиментальностью. Говорили только о бракосочетании Наполеона. Ничто не осталось скрытым от госпожи фон Миттерер. Она знала число и ранги присутствовавших в церкви на венчании, знала, что императорский шлейф Марии Луизы, который несли пять настоящих королев, был из тяжелого бархата длиною в девять футов, а на нем были вышиты золотые пчелы, точно такие, как на гербе рода Барберини, давшем, как известно, множество пап и государственных деятелей, которые в свою очередь, как известно…
Монолог госпожи фон Миттерер терялся где‑то в далеком прошлом и сопровождался непонятными восклицаниями.
– Ах, мы должны быть счастливы, что живем в эти знаменательные времена, хотя, быть может, сами и не сознаем этого и не умеем оценить их подлинное значение, – говорила Анна Мария, обнимая госпожу Давиль; не имея возможности ни уклониться, ни защититься, госпожа Давиль переносила все, хотя ей для счастья не нужны ни императорские свадьбы, ни исторические сведения, лишь бы дети были здоровы да в доме все было в порядке.
Затем следовал рассказ о великом императоре, который отправился в путь, как обыкновенный путник, в простом мундире, чтобы неожиданно вскочить в экипаж своей августейшей невесты, не будучи в состоянии дождаться минуты свидания, установленной протоколом.
– Разве это не удивительно? Разве не удивительно? – восклицала Анна Мария.
– Конечно, конечно, – отвечала госпожа Давиль, хотя, по правде говоря, не видела тут ничего особенно величественного и по своему характеру предпочла бы, чтоб жених ждал невесту на предназначенном месте, не нарушая порядка.
– Ах, это величественно, просто величественно, – ворковала Анна Мария, сбросив легкую кашемировую шаль.
Ей стало жарко от бурных восторгов, хотя на ней было тонкое бледно‑розовое платье belle assemblйe, слишком легкое для этого сезона.
Из простой учтивости и чтобы не остаться в долгу перед гостьей, госпоже Давиль тоже захотелось поведать о чемнибудь красивом и приятном. Но поступки и склонности государей и великих личностей были для нее вещи чуждые и непонятные, да она и не имела о них настоящего представления, а потому не могла бы сказать ни единого слова, даже если бы решила лгать и притворяться. Чтобы поддержать разговор, она начала рассказывать Анне Марии о новом сорте необыкновенно пышных гиацинтов, с оживлением объясняя, как будут выглядеть четыре клумбы разноцветных гиацинтов, которые займут всю середину большого сада. Она показала ящики, в которых лежали рассортированные по цветам коричневые неказистые и шероховатые луковицы этих будущих цветов.
В отдельном ящике хранились клубни благороднейшего сорта белых гиацинтов, доставленных курьером из Парижа, которыми госпожа Давиль особенно гордилась. Грядка этих гиацинтов опояшет все четыре клумбы и как бы свяжет их наподобие белой ленты. Такого благородного по запаху, окраске и величине сорта еще ни у кого здесь нет. Она сообщила, с какими трудностями она их получила, добавив, что в конце концов все обошлось не так уж дорого.
– Ах, ах! – восклицала Анна Мария, все еще находясь в свадебном настроении. – Ах, это великолепно! Императорские гиацинты в такой дикой стране! Ах, дорогая, окрестим этот сорт «свадебная радость», или «августейшие молодожены», или…
Возбужденная собственными словами, Анна Мария предлагала все новые названия, а госпожа Давиль, чтобы не затягивать разговор, заранее со всем соглашалась, словно имела дело с ребенком, которому бессмысленно перечить.
На этом разговор сам собой оборвался, так как в беседе слова одного должны побуждать к ответу другого, а тут каждая говорила о своем. Да иначе и быть не могло. Анна Мария восторгалась чем‑то далеким, чуждым и не имеющим к ней отношения, а госпожа Давиль делилась только тем, что близко ее касалось и было связано с ней и ее семьей.
В конце визита, как было заведено у госпожи Давиль, вошли мальчики, чтобы поздороваться с гостьей. Двухмесячная девочка, накормленная и спеленатая, спала в своей белой тюлевой колыбели.
Хрупкий и бледненький Пьер, которому шел восьмой год, в темно‑синем бархатном костюмчике с белым кружевным воротничком был красив и кроток, словно министрант. Он вел за руку младшего брата Жана Поля, крупного и здорового румяного бутуза с белокурыми локонами.
Анна Мария не любила детей, а госпожа Давиль не могла себе представить, что кто‑то в состоянии быть к ним равнодушным. Время, проведенное с детьми, Анна Мария считала потерянным. В их присутствии на нее нападало ощущение какой‑то бесконечной пустоты и скуки. Нежное детское развивающееся тельце отталкивало ее как что‑то сырое и незрелое, вызывая в ней чувство физической неловкости и непонятной робости. Она (сама не зная почему) стыдилась этого чувства и скрывала его под слащавыми словами и бурными восклицаниями, которыми всегда осыпала детей. Но в душе, глубоко в душе, она испытывала к ним отвращение, побаивалась этих маленьких человечков, вопросительно и проницательно оглядывающих нас своими большими новыми глазами и осуждающих строго и холодно. (Или ей это только так казалось?) Она всегда опускала глаза под пристальным взглядом детей, чего никогда не случалось под взглядом взрослых, вероятно, потому, что взрослые так часто играют роль либо подкупленных судей, либо добровольных соучастников наших слабостей и пороков.
И теперь присутствие детей вместо радости вызвало у Анны Марии то же ощущение скуки и неловкости, но тем горячее она расцеловала малышей, заимствуя необходимое для этого воодушевление из неисчерпаемого запаса восторгов по поводу императорского бракосочетания в Париже.
Простившись наконец, Анна Мария проследовала между свежевскопанными клумбами торжественной поступью свадебного марша, госпожа Давиль и изумленные дети смотрели на нее с порога дома. У садовой калитки она обернулась и, помахав рукой, крикнула, что теперь надо чаще видеться и чаще беседовать об удивительных, удивительных и великих делах, которые свершаются на наших глазах.
Полковник фон Миттерер считал, что безмерный восторг его жены не соответствует полученным инструкциям, но тем не менее и он, и все домашние были счастливы, что Анна Мария нашла отдаленный и безобидный, зато постоянный предмет для своих восторгов. На целый год Травник и ничтожная, нудная жизнь в консульском доме перестали для нее существовать. Она прекратила расспросы о том, когда мужа переведут отсюда в другое место, и жила исключительно в атмосфере августейшего семейного счастья, всеобщего умиротворения и мистического единения всех противоположностей на свете. Все это проявлялось в ее разговорах, поведении, музицировании. Она знала фамилии всех придворных дам новой французской императрицы, стоимость, вид и качество всех свадебных подарков, образ жизни и распорядок дня Марии Луизы. С большим сочувствием следила за суДьбой бывшей императрицы Жозефины. Таким образом, и склонность ее к слезам нашла далекий и достойный объект, что избавило полковника от многих неприятных минут.
В этом году и во французском консульстве жизнь проходила без перемен и волнений. В конце лета Давиль послал своего старшего сына во Францию для поступления в лицей. И сын Давны, по рекомендации Давиля, был принят на государственный кошт и отправлен в Париж.
Давна был вне себя от счастья и гордости. Мрачный и черный, словно головешка, он не умел, как другие, открыто и громко выражать свою радость. И поэтому, благодаря Давиля, только заверял его, дрожа всем телом, что в любую минуту готов отдать свою жизнь за консульство. Так велика была его любовь к сыну и желание обеспечить ему более красивую, значительную и достойную жизнь, чем его собственная.
И вообще этот год можно было назвать счастливым, так как он протекал тихо, мирно и однообразно.
В Далмации царил мир, на границе столкновений не было. В Конаке ничего особого не происходило. Консулы встречались по праздникам без сердечной близости, как и до сих пор, а по будням бдительно следили друг за другом, но без ненависти и чрезмерного усердия. Люди всех вероисповеданий постепенно стали привыкать к консульствам, а когда увидели, что, невзирая на все трудности и неприятности, они прижились в Травнике, примирились и не только не боялись общения с ними, но и считались с ними во всех своих делах и привычках.
Так протекала жизнь и в городе и в консульствах с лета до осени и с зимы до весны, без происшествий и перемен, кроме обычных, связанных с повседневной жизнью и временами года.
Но хроника счастливых и мирных лет коротка.
XIX
Тот же курьер, который в апреле 1811 года привез в Травник газеты с известиями, что у Наполеона родился сын, получивший титул римского короля, привез фон Миттереру приказ о его переводе из Травника в Вену, в распоряжение военного министерства. Вот оно наконец спасение, которого годами ждал полковник и его семья! Теперь, когда спасение пришло, оно показалось простым и естественным и, как всякое спасение, пришло и слишком поздно, и слишком рано. Поздно потому, что не могло ни изменить, ни смягчить всего пережитого в ожидании этого спасения; рано потому, что, как и при всякой перемене, возникла вереница новых вопросов, о которых раньше не думали (переезд, деньги, дальнейшая карьера).
Анна Мария, в последние месяцы, к удивлению всех, успокоившаяся и сосредоточившаяся в себе, вдруг разразилась слезами; как все подобные ей женщины, она плакала и от болезни и от выздоровления, и от желаний и от их исполнения. И только после бурной сцены с мужем, когда она укоряла его в том, в чем с полным правом он мог бы обвинить ее, у нее хватило сил и энергии приступить к сборам.
Через несколько дней прибыл новый генеральный консул подполковник фон Паулич, до сих пор командовавший пограничным полком в Костайнице, чтобы лично принять дела от фон Миттерера.
Въезд нового австрийского консула в солнечный ап рельский день был торжественным и полным достоинства, хотя визирь выслал ему навстречу не особенно большой отряд. Моложавый и статный, фон Паулич, ехавший на хорошем коне, привлек взгляды всех и вызвал любопытство и скрытое изумление даже тех, кто никогда бы себе в этом не признался. Не только на самом консуле, но и на сопровождающих его все было аккуратно пригнано, выглажено и блестело, словно они ехали на парад. Очевидцы рассказывали потом тем, кого не оказалось на базаре или у окон, что новый австрийский консул очень солидный и представительный. («Недостает ему только нашей веры!»)
И когда через два дня новый консул в сопровождении фон Миттерера отправился во главе торжественной процессии на первый диван к визирю, произошло неслыханное чудо. Народ отыскивал взглядом нового консула среди ехавших и молча провожал его глазами. Турчанки смотрели сквозь зарешеченные окна, дети влезали на ограды и стены, но не раздалось ни одного восклицания, ни одного бранного слова. Правда, турки в своих лавках оставались, по обыкновению, неподвижными и сумрачными.
Так процессия проследовала в Конак и таким же порядком вернулась назад.
Фон Миттерер, успевший рассказать фон Пауличу, как несколько лет тому назад встречали его самого и его французского коллегу при первом проезде через Травник, был разочарован этой церемонией и в припадке меланхолии, очень напоминавшей зависть, поведал новому консулу во всех подробностях об оскорблениях, которым он тогда подвергся. Он говорил это с болью и легким упреком в голосе, словно именно он, фон Миттерер, своими страданиями проложил легкий и приятный путь своему преемнику.
Между тем новый генеральный консул был таким человеком, для которого, казалось, все дороги были торными.
Паулич происходил из богатой загребской онемеченной семьи. Его мать была немка из Штирии, из знатного рода фон Нидермейеров. Это был необыкновенно красивый мужчина лет тридцати пяти. Статный, с нежной кожей, небольшими темно‑каштановыми усиками, оттенявшими его рот, большими темными глазами, в глубине которых выделялся темно‑синий зрачок, с густыми, от природы вьющимися волосами, подстриженными и причесанными по военному образцу. От всего его существа веяло монашески чистым и холодным умиротворением, но без следов внутренней борьбы и сомнений, которые так часто накладывают отпечаток мученичества на облик и манеры монахов. Этот удивительно красивый человек проходил по жизни будто в холодной броне, скрывавшей всякое проявление его личности или человеческих слабостей и желаний. Такими же были и его речь, деловая, любезная и вполне безличная, и его глубокий голос, и улыбка, по временам открывавшая его белые красивые зубы и, словно холодный лунный свет, озарявшая его неподвижное лицо.
Этот невозмутимый человек когда‑то был необыкновенно одаренным, поразительно развитым ребенком, обладавшим чудесной памятью, потом одним из тех исключительных учеников, появляющихся раз в десять лет, для которых учение не составляет никакой проблемы и которые сдают экзамены сразу за два класса. Отцы иезуиты, у которых учился этот выдающийся мальчик, уже мечтали, что их орден приобретет в нем одну из тех совершенных личностей, которая может стать столпом ордена. Но когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, он вдруг отвернулся от отцов иезуитов, обманув все их надежды, и неожиданно избрал военную карьеру. В этом ему помогли родители, в особенности мать, в семье которой были живы военные традиции. Итак, из мальчика, изумлявшего преподавателей быстротой восприятия и широтой познаний в области классических языков, получился стройный и шустрый кадет, которому все предрекали большое будущее, а затем молодой офицер, не пьющий, не курящий, не имеющий ни любовных приключений, ни столкновений с начальством, ни дуэлей, ни долгов. Его рота была всегда в образцовом порядке и отлично обмундирована, он был первым на смотрах и военных занятиях, и все это без того особого рвения, которое, как неприятная тень, сопровождает обычно тщеславных людей в их карьере.
Окончив первым положенное обучение, фон Паулич, опять‑таки вопреки ожиданию начальства, посвятил себя службе на границе, куда обычно направляли офицеров с меньшими знаниями и подготовкой. Он изучил турецкий язык, познакомился с методом и практикой работы, с людьми и обстановкой. И когда участившиеся просьбы фон Миттерера обратили наконец на себя внимание начальства, выбор пал на фон Паулича, как на человека, «не обремененного семьей», на чем все время настаивал полковник из Травника.
И теперь переутомленный и напуганный сложной жизнью, фон Миттерер мог наблюдать этого молодого человека и его необычный стиль работы. Все дела под его взглядом и в его руках становились исключительно ясными и легко и просто распределялись во времени и пространстве, без всяких осложнений, путаницы, спешки или промедления. И все получалось естественно и гладко, как частное без остатка. А сам он был где‑то высоко над этим, недосягаемый и недоступный; участвовал во всех делах, распределяя их, направляя и решая, лишь его разум и силы. Ему были чужды всякие сомнения и непреодолимые слабости, предубеждения и идиосинкразия, все те сопутствующие поступкам людей ощущения, которые волнуют, смущают, мешают и так часто придают действиям нежелательное направление. Паулич не знал подобных затруднений. Во всяком случае, измученному фон Миттереру казалось, что этот человек работает как высший дух или как ко всему равнодушная природа.
При переселении человеческая жизнь обнажается до самых сокровенных подробностей. Фон Миттерер имел возможность наблюдать и сравнивать свое переселение (о котором он и не помышлял бы, если б позволила госпожа фон Миттерер) с переселением этого незаурядного человека. И тут, как и в делах, все у него шло просто и гладко. Ни беспорядка с багажом, ни замешательства среди прислуги. Вещи как будто сами находили свое место, и все были необходимы, просты, в нужном количестве и определенного назначения. Слуги понимали друг друга с одного взгляда, без слов, выкриков или громких приказаний. Ничто не вызывало и тени сомнения, недовольства, дурного настроения, неопределенности или нарушения порядка.
Всегда и во всем верный и безошибочный расчет.
Точно так же вел себя фон Паулич и при приеме инвентаря и в разговорах о делах и служащих генерального консульства.
Характеризуя Ротту как главного сотрудника, фон Миттерер невольно опускал глаза, и голос его звучал неуверенно. Растягивая слова, он говорил, что главный переводчик немного… того… немного своенравен и не такое… не такое уж золото, но полезен и предан. А фон Паулич во время этого разговора глядел в сторону. Его большие глаза сузились, в наружных уголках их появилась холодная и злая искорка. Все объяснения фон Миттерера он выслушал сдержанно и молча, без единого знака одобрения или порицания, оставляя, очевидно, за собой право решить этот вопрос, как и другие хозяйственные вопросы, по своему усмотрению и расчету, в котором не могло быть ошибок.
Появившись столь неожиданно перед встревоженной Анной Марией, фон Паулич неминуемо должен был привлечь ее внимание и вызвать вечно неудовлетворенную потребность любовного восторга и смутную жажду гармонии души. Она сразу назвала его «Антиноем в мундире»,[66] на что фон Паулич не отозвался ни словом, ни мимикой, будто это его не касалось и ничего общего с ним и окружающим его миром не имело. Анна Мария продемонстрировала ему свой музыкальные способности. Новый консул был абсолютно немузыкален и не скрывал этого, да и не мог бы скрыть, если бы даже и хотел. К тому же ему не была свойственна та притворная любезность, с какой немузыкальные люди постоянно участвуют в разговорах о музыке, словно желая искупить какую‑то свою вину. Разговор о мифологии и римских поэтах был гораздо удачнее, но тут Анна Мария оказалась слабее: на каждый ее дистих странный подполковник отвечал целым потоком стихов. В большинстве случаев он мог продекламировать всю поэму, из которой она знала лишь один стих, да и тот с ошибками, которые он исправлял. Но читал фон Паулич холодно, деловито, будто это не имело никакой связи ни с ним, ни с окружающими, ни вообще с живыми людьми. Всякий намек на лирику был для него пустым звуком.
Анна Мария растерялась. До сих пор каждая встреча, а их было множество, заканчивалась разочарованием и бегством, но в своих «метаниях» она всегда добивалась от мужчины наступления или, наоборот, отступления – иногда и того и другого, но не было случая, чтобы он устоял на месте, как этот бесчувственный Антиной, перед которым она теперь напрасно проводила свою игру. Для нее это был новый и особенно жестокий способ самоистязания. И это сразу отразилось на домашней жизни. (В первый же день Ротта заявил в канцелярии на том поганом языке, на котором мелкие чиновничьи душонки говорят о своем начальстве, что «мадам набивается на ангажемент».) Пока фон Миттерер вводил нового консула в должность, Анна Мария бушевала в доме, отменяла приказания мужа, садилась на сундуки, набитые до отказа, и плакала; она то откладывала отъезд, то торопила его; по ночам будила едва успевшего заснуть мужа, осыпая его упреками и оскорблениями, которые выдумывала, пока не спала.
Не успели уложить вещи, как все оказалось не на своем месте, и никто не знал, где что находится. В срок, назначенный для отъезда, лошадей, обещанных консулу мутеселимом, не оказалось. Анна Мария впадала то в ярость, то в мрачную тоску. Ротта бегал, кричал, угрожал. Когда наконец на третий день пригнали нужное количество подвод, выяснилось, что многие сундуки слишком громоздки и вещи надо перепаковывать. И это можно было бы сделать, если бы Анна Мария не желала сама всем распоряжаться и заправлять. Из‑за этого вещи ломались и портились еще до отправки. Вокруг консульства раскинулся целый табор.
Наконец все было погружено и отправлено. На другой день тронулось и семейство фон Миттерера. Перед опустевшим консульством, во дворе, где было полно соломы, сломанных досок и конского навоза, Анна Мария простилась с подполковником оскорбительно холодно, сжав губы, с сухими и злыми глазами. Она поехала вперед с дочкой. За ними двинулись фон Миттерер и фон Паулич верхом.
От французского консульства фон Миттерера провожал Давиль в сопровождении Давны и телохранителя. Но на первом перекрестке они расстались, простившись скорее сдержанно и натянуто, чем холодно и равнодушно, так же, как они впервые встретились в осенний день больше трех лет тому назад и как прожили и общались все это время.
Здесь же Давиль наблюдал, как к растроганному фон Миттереру подходили католики, женщины и дети, целовали ему руку или осторожно касались стремени, а целая толпа людей стояла у дороги, ожидая своей очереди.
Возвращаясь домой, Давиль так и видел перед собой эту картину последнего триумфа фон Миттерера. Он и сам был несколько взволнован, но не отъездом полковника, а размышлениями о собственной судьбе и теми воспоминаниями, которые этот отъезд в нем вызвал. Самый же факт отъезда этого человека казался ему, пожалуй, облегчением. Не потому, что он освобождался от опасного противника, так как, судя по разговорам, новый консул был сильнее и умнее фон Миттерера, а потому, что этот полковник с желтым лицом и усталым, грустным взглядом стал с течением времени как бы олицетворением их общей, никем не признанной тяжелой участи в этой дикой стране. Что бы ни случилось в дальнейшем, теперь, при расставании со столь трудным человеком, каким был фон Миттерер, Давиль испытывал больше удовольствия, чем в то время, когда встречал его.
На первом привале близ Лашвы, около полудня, фон Паулич распрощался со своим предшественником. Анна Мария наказала его, не дав возможности еще раз ей откланяться. Она вышла из экипажа, который порожняком поднимался в гору, и пошла пешком по зеленой обочине, не желая даже оглянуться в долину, где консулы прощались, стоя у воды. До слез щемящая тоска, охватывающая и более здоровых женщин, когда они покидают место, где прожили несколько лет, независимо от того, хорошо или плохо, душила теперь и Анну Марию. Комок едва сдерживаемых слез подкатывал к горлу, судорожно кривился рот. Но больше всего ее мучила мысль о красивом и холодном подполковнике, которого она звала уже не Антиноем, а «глетчером», так как он, по ее мнению, был холоднее мраморной статуи прекрасного античного юноши. (Она прозвала его так еще прошлой ночью, у нее была привычка даже при самых мимолетных отношениях давать людям клички.) Строгая и торжественная, поднималась Анна Мария по горной дороге, словно возносясь на священную и трагическую высоту.
Рядом с ней, ближе к середине дороги, шла ее дочь Агата, молчаливая и испуганная. У нее совсем не было такого ощущения, что она торжественно поднимается кудато ввысь, в противоположность экзальтированной матери ей казалось, что она печально спускается вниз. Ее тоже душили слезы, но совсем по другим причинам. Она одна искренне сожалела, что покидает Травник, расстается с тишиной и привольем сада и веранды и едет в огромную неприятную Вену, где нет ни покоя, ни неба, ни простора, где уже на пороге домов чувствуются противные запахи, от которых делается тошно, в ту Вену, где ее мать, которой она и во сне стыдится, будет у нее ежеминутно перед глазами.
Но Анна Мария не замечала, что глаза у дочки полны слез. Она забыла даже о ее присутствии и только злобно шептала бессвязные слова, сердясь на мужа, что он так долго задерживается, «угождая этому глетчеру и извергу», вместо того чтобы холодно показать ему спину, как это сделала она сама. И, шепча эти слова, она чувствовала, как ветер играет легкой и длинной зеленой вуалью, завязанной сзади на дорожной шляпе, то сминая, то развевая ее. Это представилось ей красивым и трогательным и резко изменило настроение к лучшему, подняло ее в собственных глазах; отдельные подробности ее теперешней жизни исчезли, и она вообразила себя жертвой, которая под изумленными взглядами людей подымается по дороге отречения.
Вот все, что останется от нее этому бесчувственному ледяному человеку! Только неясный силуэт на горизонте и гордое колыхание ее вуали, неумолимо исчезающей и теряющейся вдали.
С такими мыслями шагала она по краю холма, словно по рампе большой и глубокой сцены.
А снизу, с долины, один только ее муж, тревожно наблюдавший за ней, следил за зеленой вуалью на холме, в то время как «глетчер», не замечая ничего на свете, прощался с ним самым милейшим и учтивейшим образом.
Но не только чувствительная и экзальтированная Анна Мария была очарована и разочарована личностью нового консула.
Уже во время первого визита, который фон Паулич нанес ему вместе с фон Миттерером, Давиль понял, что перед ним человек совсем иного склада, чем фон Миттерер. О делах консульства фон Паулич высказывался яснее и свободнее. С ним можно было беседовать на любую тему, а в особенности о классической литературе.
Во время последующих визитов, которыми они обменялись, Давиль мог заметить, насколько обширны и глубоки его знания текстов и комментариев. Фон Паулич ознакомился с французским переводом Вергилия, сделанным Делилем, который ему послал Давиль, и четко и серьезно изложил свое мнение, доказывая, что хороший перевод должен сохранять оригинальную метрику стиха, и осуждая Делиля за то, что тот злоупотреблял рифмой. Давиль старался защитить своего кумира, счастливый уже тем, что может о нем говорить.
Но первоначальная радость, вызванная приездом этого литературно образованного человека, быстро исчезла. Довольно скоро Давиль понял, что разговор с подполковником не доставляет ему того удовольствия, какое приносит обычно обмен мыслями с благородным собеседником о любимом предмете. Разговор с подполковником был, в сущности, обменом сведениями, всегда точными, занимательными и многочисленными по любому поводу, но не обменом мыслями и впечатлениями. Все в этом разговоре носило безличный, холодный и отвлеченный характер. Окончив беседу, подполковник уезжал со своим богатым запасом ценных сведений, неизменно красивый, аккуратный, холодный и невозмутимый, а Давиль оставался все в том же печальном одиночестве, с той же жаждой душевной беседы. Разговоры с ним ничего не давали ни уму, ни сердцу; нельзя было запомнить даже тембр его голоса. Фон Паулич вел разговор так, что собеседник не мог ни узнать что‑либо о нем, ни поведать о себе. Вообще все сколько‑нибудь интимное и личное отскакивало от подполковника как от стены. Таким образом, Давиль должен был оставить всякую надежду на обсуждение своей поэтической деятельности с этим бесстрастным любителем литературы.
По случаю радостного события при французском дворе Давиль сочинил к крестинам римского короля специальную поэму и послал ее в свое министерство с просьбой передать в высшие сферы. В поэме, начинавшейся словами: «Salut, fils du printemps et du dieu de la Guerre!»,[67] выражалась надежда на мир и благоденствие всех народов Европы; попутно были упомянуты и скромные труженики, заброшенные в «дикие и печальные края».
Как‑то, посетив фон Паулича, Давиль прочел ему свое произведение, но ничего этим не достиг. Подполковник не только не захотел понять намека на их сотрудничество в Боснии, но ни словом не обмолвился ни о стихах, ни о сюжете. И при всем том, что было самое неприятное, он оставался тем же учтивым и любезным человеком, каким был всегда и при всех обстоятельствах. Давиль был в душе разочарован и зол, но не имел повода проявить свою обиду.
XX
Годы после Венского мира (1810 и 1811), названные нами мирным периодом в жизни Давиля, были, в сущности, годами упорного труда.
Войны прекратились, не было резких кризисов и открытых столкновений, зато консульство было целиком занято торговыми делами, сбором сведений, составлением донесений, выдачей паспортов на товары и рекомендательных писем для французских властей в Сплите или для таможни в Костайнице. «Торговля пошла через Боснию» – как говорили в народе, или как сам Наполеон сказал где‑то:
«Времена дипломатов кончились, теперь настали времена консулов».
Еще три года назад Давиль предлагал план для развития торговли между Турцией и Францией и подчиненными ей странами. Он усиленно советовал организовать постоянную французскую почтовую службу на турецких землях, чтобы не зависеть от австрийской почты и турецкого беспорядка и произвола. Но все предложения так и остались лежать в битком набитых парижских архивах. Теперь, после Венского мира, стало очевидно, что и сам Наполеон заинтересован в осуществлении этих предложений в кратчайший срок и в гораздо больших масштабах, чем травницкий консул когда‑либо решался предлагать.
Континентальная система Наполеона требовала огромных перемен в сети путей сообщения и торговых линий. Согласно идее Наполеона, образование Иллирийских провинций с центром в Любляне должно было служить исключительно этой цели. Старые пути через Средиземное море, по которым Франция получала с Ближнего Востока сырье, особенно хлопок, стали затруднительными и опасными из‑за английской блокады. Теперь торговлю надо было вести по суше, а вновь образованная Иллирия должна была служить связующим звеном между землями Оттоманской империи и Францией. Эти пути существовали издавна – от Стамбула до Вены по Дунаю и от Салоник через Боснию до Триеста по материку. Торговые связи австрийских земель с Ближним Востоком давно осуществлялись этими путями. Теперь следовало их расширить и приспособить к требованиям наполеоновской Франции.
Как только по первым циркулярам и из газетных статей стали ясны замыслы Наполеона, среди французских властей и учреждений началось соревнование, кто с большим усердием и лучше выполнит пожелание императора. Завязалась обширная переписка и установилось тесное сотрудничество между Парижем, генерал‑губернатором и главным интендантом в Любляне, посольством в Стамбуле, маршалом Мармоном в Далмации и французскими консульствами на Ближнем Востоке. Давиль работал с увлечением, не без гордости ссылаясь на свои донесения трехлетней давности, из которых явствовало, насколько его идеи и взгляд на вещи уже тогда совпадали с мыслями императора.
Теперь, летом 1811 года, эти дела были достаточно налажены. За последний год Давиль приложил большие усилия, чтобы во всех местах, через которые проходили французские товары, подыскать доверенных людей, обеспечить поставку лошадей и добиться хоть какого‑то надзора за возчиками и грузами. Все это достигалось с трудом, медленно и выполнялось небрежно, как всякое дело в этой стране, но все же была надежда на улучшение, и работа подвигалась легко и весело, словно «на парусах, подгоняемых наполеоновским гением».
Наконец Давиль дождался, что торговый дом «Братья Фрессине» – один из самых крупных в Марселе, ранее перевозивший товары с Ближнего Востока морским путем, открыл свое агентство в Сараеве. Агентство находилось под покровительством французского правительства и получило указание сотрудничать с консулом. Один из братьев Фрессине, молодой человек, прибыл месяц тому назад в Сараево для ведения дел. А теперь приехал на день‑два в Травник – нанести визит генеральному консулу и обсудить дальнейшие планы.
Прекрасное и короткое травницкое лето в полном разгаре.
Прозрачный день, пронизанный солнечным светом и синевой небес, ослепительно сияет над Травницкой долиной.
Посреди большого цветника перед зданием консульства накрыт стол, вокруг которого расставлены белые плетеные ивовые стулья. Тут тенисто и свежо, хотя чувствуется зной и духота, исходящие от домов, что теснятся внизу, в торговых рядах. От крутых зеленых склонов узкой котловины веет сухим жаром, и кажется, что склоны дышат, приподнимаясь, как бока зеленой ящерицы, лежащей на солнышке.
Гиацинты госпожи Давиль давно уже отцвели, и белые, и пестрые, и махровые, и простые, но по краям клумб еще цветет красная пеларгония и мелкие лиловые альпийские фиалки.
За столом в тени сидят Давиль и молодой Фрессине. Перед ними – развернутые копии их донесений, номера газеты «Moniteur» с текстами распоряжений и приказов и письменный прибор.
Жак Фрессине, молодой крепыш, обладал такой спокойной уверенностью в голосе и движениях, какая обычно свойственна купеческим детям. Коммерческий талант был у него, что называется, в крови. Никто из членов его семьи никогда не занимался – и не хотел заниматься – другим делом, не принадлежал к другому сословию. И он ничем не отличался от своих. Как и все члены его семьи, он был опрятен, учтив, рассудителен, осторожен и решителен в защите своих прав, всегда отстаивал свои интересы, однако не слепо и не рабски.
Фрессине дважды проделал путь от Сараева до Костайницы, нанял в Сараеве целый постоялый двор и уже завел дела с торговцами, возчиками и властями. Теперь он приехал с целью обменяться сведениями с Давилем, сделать свои замечания и предложения. Консул был рад, что в своей работе, часто казавшейся ему непреодолимо трудной, приобрел в качестве сотрудника такого бойкого, но вежливого южанина.
– Итак, еще раз, – сказал Фрессине с той уверенностью, с какой торговцы перечисляют факты, идущие им на пользу, – еще раз повторяю. От Сараева до Костайницы семь дней караванного пути с ночевками в следующих пунктах: Киселяк, Бусовача, Караула, Яйце, Змияне, Нови‑Хан, Приедор и, наконец, Костайница. Зимой привалов должно быть вдвое больше, то есть четырнадцать. На этом отрезке пути надо построить еще, по крайней мере, два караван‑сарая, если мы хотим уберечь товар от непогоды и расхищения. Цены за провоз резко поднялись и продолжают подниматься. Повышение это вызвано австрийской конкуренцией и зависит, как мне кажется, и от некоторых сараевских торговцев, сербов и евреев, работающих по указанию англичан. В данный момент надо принимать в расчет следующие цены: от Салоник до Сараева сто пятьдесят пять пиастров за вьюк; от Сараева до Костайницы пятьдесят пять пиастров. Два года тому назад цены были ниже ровно вдвое. И надо сделать все от нас зависящее, чтобы остановить их дальнейший рост, иначе может оказаться под вопросом вся перевозка. К этому надо прибавить произвол и алчность турецких чиновников, склонность населения к кражам и грабежу, опасность распространения восстания в Сербии, наличие гайдуков в албанских краях и, наконец, опасность эпидемий.
Давиль, всюду выискивающий руку информационной службы, поинтересовался, на основании чего Фрессине сделал вывод, что сараевские торговцы работают на англичан, но молодого человека нельзя было ни смутить, ни сбить с толку. Держа перед собой свои записки, он продолжал:
– Итак, заключаю и резюмирую. Транспорту угрожает следующее: восстание в Сербии, албанские гайдуки, воровство в Боснии, резкое повышение цен на перевозку, непредвиденные тарифы и налоги, конкуренция и, наконец, чума и другие заразные болезни. Необходимо принять следующие меры: во‑первых, установить между Сараевом и Костайницей два караван‑сарая; во‑вторых, прекратить неумеренное колебание курса турецких денег и особым фирманом установить курс в пять с половиной пиастров за шестифранковый экю, как и за талер Марии Терезии, за венецианский цехин – одиннадцать с половиной пиастров и так далее; в‑третьих, расширить больницу в Костайнице; вместо парома соорудить мост, перестроить склад, чтобы он мог вмещать по меньшей мере восемь тысяч тюков хлопка, устроить места для ночлега приезжающих и прочее; в‑четвертых, присоединить ко всем нашим пожеланиям особые подарки визирю, Сулейман‑паше и еще нескольким видным туркам; расходы в общей сложности должны составить от десяти до тринадцати тысяч франков. Таким способом, я полагаю, можно было бы обеспечить сообщение и устранить главные трудности.
Давиль записывал все эти предложения, чтобы внести их в свой очередной отчет, с удовольствием готовясь в то же время прочитать молодому человеку свой отчет 1807 года, в котором он так удачно предвосхитил планы Наполеона, и все то, над чем сейчас работал.
– Ах, сударь, я мог бы многое вам рассказать о препятствиях, на которые наталкивается в этих краях всякое дело и полезное начинание. Многое мог бы вам рассказать, но вы и сами увидите, что это за страна, какой здесь народ, каково управление и сколько на каждом шагу трудностей.
Но молодому человеку больше не о чем было говорить, так как он точно определил трудности и средства для их устранения. Ему, как видно, были чужды жалобы общего характера и «психологические феномены». Однако он вежливо согласился выслушать донесение Давиля за 1807 год, к чтению которого консул и приступил.
Тень, в которой они сидели, становилась все гуще. Лимонад в высоких хрустальных бокалах, стоявших перед ними, согрелся: за разговором оба о нем забыли.
В той же самой летней тишине, двумя кварталами выше консульства, где беседовали Давиль и Фрессине, немного левее и ближе к реке, низвергавшейся здесь легким и прозрачным водопадом, в саду Мусы Крджалии сидели он сам и его друзья.
В запущенном саду, раскинувшемся по крутому склону, было еще тенистей. На серджаде, разостланной под большой сахарной грушей, видны остатки еды, кофейные чашки и сосуд с охлажденной ракией. Солнце уже зашло, освещен был лишь противоположный берег Лашвы. В траве лежат Муса Певец и Хамза Глашатай. Прислонившись спиной к склону и упершись ногами в грушу, полулежал Мурат Ходжич по прозванию Пьяный Ходжа. К груше была приставлена небольшая домра с надетым на гриф стаканчиком.
Мурат Ходжич был чернявый человечек, задорный, как петух. На желтом, с мелкими чертами лице его фанатически горели большие темные глаза. Он был из добропорядочной семьи и когда‑то учился в школе, но ракия помешала ему окончить ее и стать имамом, подобно многим из его семьи. Рассказывают, что на последнем экзамене он предстал перед учителем и экзаменационной комиссией пьянехонький, едва держась на ногах, шатаясь на ходу из стороны в сторону. Мудериз не допустил его до экзамена и назвал его Пьяным Ходжой. Это прозвище так за ним и осталось. Вспыльчивый и самолюбивый, юноша тогда запил от обиды. И чем больше он пил, тем сильнее разгоралось в нем чувство оскорбленного тщеславия и горечи. Выброшенный из рядов своих сверстников на пороге жизни, он стал мечтать о том, как бы, совершив в один прекрасный день какой‑то необыкновенный подвиг, обставить всех и таким образом отомстить сразу за все. Как многие неудачники маленького роста, но честолюбивые и с живым умом, он страдал при мысли, что так и останется до конца дней своих ничтожным, невзрачным и никому не известным, и мечтал удивить мир неизвестно чем, где и когда. С течением времени под влиянием беспробудного пьянства эта идея стала навязчивой и полностью им овладела. Чем ниже он опускался, тем охотнее питался ложью и самообманом, разжигая себя громкими словами, смелыми выдумками и суетными мечтаниями. Два его дружка, такие же пьяницы, как он, потешались над ним по этому поводу и высмеивали.
В чудесные летние дни трое приятелей собирались, как правило, в саду Мусы и принимались за ракию, а потом в сумерках спускались в город и продолжали пьянствовать там. Дожидаясь, когда крупные звезды засияют во мраке на узкой синей полоске травницкого неба, и все больше пьянея, они негромко пели и вяло, бессвязно разговаривали, не вникая в слова собеседника. Это разговоры и песни людей, отравленных алкоголем. Они заменяли им работу и движение, от которых они давно отвыкли. В своих разговорах они путешествовали, совершали подвиги, осуществляли неосуществимые мечты, видели невиданное и слышали неслыханное, росли и кичились собственным величием, поднимались ввысь и летали, словно у них были крылья, становились такими, какими никогда не были и не сумеют стать, овладевали даже тем, чего нет на свете и что может дать только ракия на одно мгновение тем, кто полностью подпал под ее власть.
Муса говорил меньше всех. Он лежал, утонув в густой темной траве. Руки заложил под голову, левую ногу согнул в колене, а правую перекинул через нее, как делают обычно сидя. Взгляд его терялся в светлом небе. Сквозь густую траву он щупал пальцами теплую землю, которая, казалось ему, дышала спокойно и равномерно. Он чувствовал при этом, как теплый воздух проникает в рукава и шаровары. Это было едва уловимое веяние, тот самый травницкий ветерок, который медленно стелется в летнее предвечерье по самой земле, сквозь траву и кусты. Муса, находившийся на полпути между похмельем и новым опьянением, весь отдался теплу нагретой земли и непрерывному легкому движению воздуха; ему чудилось, что они приподнимают его, что вот‑вот он полетит и уже летит, и не потому, что они сильны, а потому, что сам он – только дыхание и беспокойное тепло и так легок и слаб, что может быть подхвачен ими.
Продолжая взлетать и порхать лежа на месте, он, будто сквозь сон, слушал разговор своих друзей. Голос у Хамзы хриплый, и его трудно понять, зато у Пьяного Ходжи густой и резкий; говорил он всегда медленно и торжественно, устремив взгляд в одну точку, словно читал по книге.
Еще три дня тому назад друзья пришли к выводу, что у них нет денег и надо достать их любым способом. Давно наступила очередь Пьяного Ходжи заняться этим. Но деньги он раздобывал неохотно, предпочитая пить за чужой счет.
Речь шла о деньгах, которые Пьяный Ходжа должен был занять у своего недавно разбогатевшего дяди в Подлугове.
– Откуда у него деньги? – спрашивал Хамза с язвительным недоверием, как человек, отлично знавший как того дядю, так и то, что деньги даются нелегко.
– Заработал нынче летом на хлопке.
– Возчиком у французов?
– Нет, он скупает хлопок в селах и перепродает его.
– А товар идет постоянно? – спросил лениво Хамза.
– Идет, говорят, всем на удивление. Англичанин, видишь ли, закрыл путь по морю, вот у Бонапарта и не стало хлопка. А ведь надо одевать этакую армию. Ну и приходится теперь посылать хлопок через Боснию. От НовиПазара до самой Костайницы – конь за конем, тюк за тюком, – и все хлопок. Дороги забиты, постоялые дворы переполнены. Возчиков нигде не достать: все скупил француз и платит добрыми дукатами. Сегодня у кого есть конь, тот загребает золото, а кто имеет дело с хлопком – через месяц богач.
– Ладно, а как достают хлопок?
– Как? Очень просто. Француз не продаст хлопок ни за какие деньги. Дом предложи за окку хлопка – и то не отдаст. Да, но народ додумался и ворует. Крадут на постоялых дворах, где ночуют возчики и разгружают товар. Пока разгружают, счет верный, а когда наутро начинают грузить, глядь – тюка не хватает. Поднимается суматоха: кто? где? Но не может же весь караван ждать из‑за одного тюка. Так и идут дальше без него. А еще больше растаскивают по селам. Выходят деревенские ребятишки на дорогу и, прячась по кустам, ножичками распарывают мешковину на каком‑нибудь тюке. Дорога‑то узкая, заросла кустарником, хлопок зацепляется за него и остается на ветках по обе стороны дороги. Как только караван уйдет, ребята выскакивают и собирают его в корзинки, а потом снова сидят в засаде – ждут следующего каравана. Французы жалуются на возчиков, вычитают у них из заработка, кое‑где появляются стражники и ловят детей. Но разве с народом сладишь? Бонапартов хлопок ощипывают и собирают с веток, словно в Египте, а из городов приходят люди и перекупают. Так многие оделись и разбогатели.
– И все эти дела в Боснии делаются? – сонно осведомился Хамза.
– Не только в Боснии, но и по всей империи. Бонапарта добыл в Стамбуле указы, а по стране разослал консулов и торговцев с деньгами. Известно ли тебе, несчастный, что мой дядя за хлопок Бонапарты…
– Ты знай деньги доставай, – тихо и презрительно перебил его Муса, – а мы не станем спрашивать, от какого они дядюшки, где растет хлопок, а где сталь. Нам деньги нужны.
Муса не любил рассказов Пьяного Ходжи, всегда бесконечно длинных и хвастливых, в которых он старался выставить себя ученым, смелым, широко осведомленным. Хамза был терпеливее и слушал эти россказни спокойно, с чувством юмора, никогда его не покидавшим, даже во времена полного безденежья.
– Ей‑богу, нужны, – как отдаленное эхо отозвался Хамза. – Здорово нужны.
– Э, достану я денег, право же достану, помру, а достану, – торжественно заявил Пьяный Ходжа.
Никто не отозвался на его клятвы и уверения.
Тишина. Три человека, расслабленные бездельем, постоянно либо разгоряченные алкоголем, либо мучительно жаждущие его, дышат и, по видимости, отдыхают, растянувшись на траве, в теплой тени.
– Сила – этот Бонапарта, – опять послышался голос Пьяного Ходжи; он говорил цедя слова, словно думал вслух, – силен человек, всех с ходу побеждает, всем овладевает. А говорят, невзрачный и маленький, не на что смотреть.
– Маленький, с тебя ростом, да сердце у него большое, – заметил Хамза, зевая.
– И будто бы не носит ни сабли, ни ружья, – продолжал Пьяный Ходжа. – Только поднимет воротник, надвинет шляпу на лоб и бросается впереди войска и все кругом сокрушает; глаза молнии мечут, ни сабля, ни пуля его не берут.
Пьяный Ходжа снял стаканчик с домры, наполнил его и выпил, действуя при этом только левой рукой; правую он заложил за борт антерии и голову склонил на грудь, не спуская рассеянного взгляда с шероховатой коры груши.
Ракия сразу в нем запела.
Чуть шевеля губами, не изменяя позы и не сводя глаз с дерева, он затянул густым баритоном:
Болела красавица Наза,
Одна‑единая дочка у матери…
Он опять снял стаканчик, наполнил его, осушил и насадил на домру.
– Эх, повстречаться бы мне с ним…
– С кем? – спросил Хамза, хотя уже в сотый раз слушал подобные мечтания.
– С ним, с Бонапартой. Потягались бы мы с ним, с басурманом, да посмотрели, на чьей стороне окажется счастье.
Безрассудные слова тонули в полнейшей тишине. Пьяный Ходжа снова снял стаканчик с домры, выпил с содроганием, крякнул и продолжал на низких нотах:
– Если он победит, пусть возьмет мою голову. Ни чуточки не жаль. А если я его поборю и свяжу, то я пальцем его не трону, только связанного проведу через все войско и заставлю платить султану подати, как самого последнего пастуха‑христианина из‑под Караулы.
– Бонапарта‑то далеко, Мурат, далеко, – добродушно сказал Хамза, – большая сила у него и войско. И через какие еще гяурские царства предстоит тебе, несчастному, пройти?
– Да через другие‑то страны легко, – небрежно и свысока отмахнулся Пьяный Ходжа. – Бонапарта далеко, только когда у себя дома сидит, а ведь он никак не угомонится, все шатается по свету. В прошлом году приходил под Вену и женился там; взял дочку немецкого императора.
– Ну тут, под Веной, могло бы, конечно, что‑нибудь выйти, – с усмешкой заметил Хамза, – если бы ты вовремя спохватился.
– Так я давно твержу тебе, что пора двинуться в широкий мир; вместо того чтобы помирать от скуки в этой травницкой плесени, прославить свое имя и разом погибнуть. Сколько раз уж говорил об этом, а вы двое все свое: не надо, погоди, нынче да завтра. Так вот…
Высказав это, Пьяный Ходжа резким движением снял стаканчик с домры, налил ракии и выпил залпом.
Ни Хамза, ни Муса уже не отзывались на его грезы. Мелкими глотками, незаметно и они попивали ракию из своих кофейных чашечек. Предоставленный самому себе маленький Пьяный Ходжа замкнулся в горделивом и презрительном молчании, в какое погружаются после трудных поединков и великих дел, не получивших ни настоящего признания, ни достойной награды. Мрачный, сунув руку за борт антерии, опустив подбородок на грудь, он уставился в пространство невидящим взглядом.
Болела она три года… –
снова неожиданно зазвучал его печальный баритон, и казалось, что поет не он, а кто‑то другой. Хамза встрепенулся и кашлянул.
– За твое здоровье, Мурат, старый поединщик! Двинешься ты, с божьей помощью и по воле аллаха, и еще полмира узнает и услышит, кто такой Мурат, какого он рода и племени.
– За твое здоровье! – растроганно и грустно воскликнул Пьяный Ходжа, устало поднимая свой стаканчик с таким видом, словно был обременен собственной славой.
Так проходило время, Муса, лежа молча и неподвижно, витал и кружился вместе с ветром и теплой землей, как бы освободившись на миг от закона тяготения и оков времени.
Прозрачный день, пронизанный солнечным светом и синевой небес, ослепительно сиял над Травницкой долиной.
XXI
В начале 1812 года стали все чаще появляться признаки новой войны, о том же говорили слухи. У Давиля при каждом таком известии слегка кружилась голова, как у человека, видящего, что его ожидают знакомые мучения, какие уже не раз обрушивались на него.
– Боже милостивый, боже милостивый!
Произносил он это невнятно, про себя, с глубоким вздохом откидываясь на стуле и закрывая глаза правой рукой.
Все начиналось сызнова, как в позапрошлом году и в то же время как раньше, в 1805 и 1806 годах. И все повторится снова. Беспокойство и заботы, сомнение во всем, стыд и отвращение и в то же время подленькая надежда, что все в конце концов и на этот раз – еще один раз! – счастливо уладится и что жизнь (противоречивая, горькая, сладостная, единственная), жизнь империи, общества, его самого и его семьи станет устойчивой, – надежда, что это испытание последнее, что настанет конец жалкому существованию, когда человек медленно подымается и падает, словно на каких‑то сумасшедших качелях, оставляющих ему ровно столько дыхания, чтобы сказать: я жив. Вероятно, и на этот раз все закончится победными бюллетенями, благоприятными мирными договорами, но кто может выдержать эту жизнь, которая становится все более тяжелой и дорогостоящей морально, и кто сумеет платить требуемую ею цену? Что еще может дать человек, уже целиком себя отдавший, где найти силы, уже истощившиеся? Но все обязаны дать и сделать все, чтобы избавиться наконец от этих вечных войн и отдохнуть, достигнув прочного мира.
«Мир, только мир. Мир, мир!» – думал или шептал консул, и одно это слово убаюкивало его.
Но перед закрытыми глазами, заслоненными холодной ладонью, вдруг появилось забытое лицо забытого фон Миттерера, желтое и печальное, с глубокими морщинами, в которых залегли зеленоватые тени, с прямыми, тонко закрученными усиками и черными глазами с нездоровым блеском. Такое именно было у него лицо в прошлом году в то же время, когда, сидя в этой комнате, он любезным тоном и двусмысленно намекал, что весной «будет заваруха» (употребил он именно это казарменное выражение). И вот теперь он появился, точно и неумолимо, как педантичное и тупое привидение, дабы показать, что его предвидение сбылось, что мира нет и быть не может. Голова фон Миттерера говорила, как и в прошлом году при прощании, злорадно и с горечью:
– Il y aura beaucoup de tapage.[68]
Нехорошие слова, плохой выговор, а главное, язвительный тон…
– …beaucoup de tapage… de tapage… de tapage…
И при этих словах лицо фон Миттерера начало колебаться и постепенно стало мертвенно‑бледным… Да это уже и не фон Миттерер. Это отрубленная, бледная и окровавленная голова на копье санкюлота, которую он увидел из своего окна в Париже более двадцати лет тому назад.
Давиль вскочил, взмахнул рукой и отогнал полусон, а вместе с ним лицо, которое появилось вдруг, чтобы напугать его, беспомощного и усталого. Большие деревянные часы мерно стучали в жарко натопленной комнате.
Весна предвещала Давилю много тяжелого.
По циркулярным предписаниям, по ускоренному движению курьеров и по газетам можно было догадаться, что подготовляются крупные события и новые походы, что военный механизм империи опять пришел в движение. И не с кем было об этом поговорить, обменяться мнениями, расспросить о перспективах, проверить свои сомнения и страхи и в разумной беседе понять, что в этих опасениях имеет под собой основание и что является плодом фантазии, боязни и переутомления. Как все слабые и измученные люди, оказавшиеся в одиночестве и временно утратившие веру в себя, Давиль обязательно хотел найти в словах и взглядах других подтверждение и одобрение своих мыслей и поступков, вместо того чтобы находить их в самом себе. Но проклятие в том именно и состоит, что люди охотно с нами разговаривают и дают советы всегда, кроме тех случаев, когда они нам действительно нужны, а о том, что нас по‑настоящему мучит, никто не хочет с нами говорить открыто и искренне.
Фон Паулич, по обыкновению учтивый, холодный, красивый и неумолимый, действовал как автомат, никогда не ошибающийся, никогда не колеблющийся. При встречах консулы говорили о Вергилии или намерениях европейских дворов, но при этом Давилю не удавалось проверить ни одного из своих предчувствий или страхов, ибо фон Паулич в разговорах не шел дальше общих фраз насчет «союзнических и родственных связей между австрийским и французским дворами», «мудрости и дальновидности тех, кто в данное время согласованно ведает судьбами европейских государств», и всячески избегал высказываться о будущем определенно. А Давиль не решался прямо задать ему вопрос, чтобы не выдать себя, и только лихорадочно вглядывался в его необыкновенные, синие и темные глаза, в которых видел все ту же беспощадную сдержанность.
С Давной не стоило говорить. Он признавал лишь осязаемые вещи и конкретные вопросы. Все прочее для него не существовало.
Оставались еще разговоры с Ибрагим‑пашой и людьми из Конака.
Но от визиря он мог услышать приблизительно то же, что повторялось из года в год, как нечто окаменелое, каким был и сам визирь.
Было начало апреля. В это время визирь всегда становился беспокойным и раздражительным, так как приближалась пора снаряжать войско против Сербии, а из Стамбула к нему предъявляли требования, далеко превосходящие его возможности.
– Не понимаю, о чем они там думают, – жаловался визирь Давилю, который сам хотел найти утешение в этом разговоре, – не понимаю, о чем они думают, – вот все, что я могу сказать. Приказывают выступать одновременно с нишским пашой и напасть на повстанцев с двух сторон. А не знают, не хотят знать, какими силами я здесь располагаю. Как могут мои волы идти в ногу с его конями? Где мне достать десять тысяч людей и как их прокормить и снарядить, когда трех боснийцев нельзя свести вместе без того, чтобы они не поспорили, кому быть первым (последним‑то, разумеется, никто не хочет быть). Но если б даже я и сумел все выполнить, какой бы вышел из этого толк, если боснийские молодцы не желают сражаться по ту сторону Дрины и Савы. На границе Боснии их покидают храбрость и легендарное геройство.
Ясно чувствовалось, что в данную минуту визирь не был в состоянии ни говорить, ни думать о чем‑либо другом. Он даже как‑то оживился, если вообще можно применить к нему это слово, и отмахивался рукой, словно тщетно отгонял назойливую муху.
– Впрочем, Сербия не заслуживает, чтобы о ней столько говорили. Эх, будь жив султан Селим, все сложилось бы иначе.
А раз зашла речь о несчастном Селиме III, то уж в этот день нечего было ждать разговора на другую тему. Так оно и получилось.
В те дни Давиль специально сделал подарок Тахирбегу, тефтедару, лишь бы иметь возможность выслушать его мнение.
Проведя тяжелую зиму больше в постели, чем на ногах, Тахир‑бег вдруг ожил, стал словоохотливым и подвижным, несколько даже неестественно возбужденным. Лицо его уже слегка загорело на апрельском солнце, а глаза блестели, как от легкого опьянения.
Тефтедар быстро и лихорадочно говорил о Травнике, о проведенных здесь зимах (он провел четыре, а Давиль уже пять), о дружбе и сострадании, которые при длительном совместном пребывании в этом городе возникли у визиря и у всех них по отношению к Давилю и его семье; говорил о детях Давиля, о весне, о самых разнообразных вещах, как будто не имевших никакой связи, а на самом деле тесно связанных с общим настроением Тахир‑бега. Тихо, с улыбкой, но возбужденно, будто он делился тем, что ему самому открылось лишь в данную минуту и в чем он хотел убедить не только Давиля, но и самого себя, тефтедар, словно читая по книге, сказал:
– Весна выравнивает и исправляет все. Раз земля цветет новыми и новыми цветами и раз есть люди, способные любоваться этим феноменом и наслаждаться им, значит, все в порядке.
И темной, загорелой рукой со странно ребристыми посиневшими ногтями он легким движением показал, как все выравнивается.
– Люди же будут существовать всегда, потому что те, которые не умеют и не могут больше любоваться солнцем и цветами, гибнут, а их место занимают новые. Как сказал поэт: «В детях обновляется и очищается река человечества».
Давиль согласно кивал головой и сам улыбался, глядя на его смеющееся лицо, а про себя думал: «И этот говорит только о том, что ему в данную минуту бог знает почему необходимо». И сразу с весны и детства попробовал перевести разговор на империи и войны. Тахир‑бег подхватывал любую тему и обо всем говорил с тем же спокойно‑насмешливым увлечением, словно читал что‑то новое и приятное.
– Да, и мы слышали, что надвигаются новые войны. Кто с кем пойдет воевать и против кого, это еще будет видно, но по всем данным война начнется этим летом.
– Вы уверены? – спросил Давиль поспешно и с болью в сердце.
– Уверен, поскольку так пишут ваши газеты, – ответил тефтедар с улыбкой, – а у меня нет причин им не верить.
Тахир‑бег слегка склонил голову и смотрел на Давиля каким‑то светлым и слегка косящим взглядом, взглядом куницы или ласки, быстрых зверьков, которые убивают и пьют кровь, но не едят мяса убитых животных.
– Уверен, – продолжал тефтедар, – поскольку мне известно, что война между христианскими государствами продолжается уже столетиями.
– Но ведь и нехристианские, восточные государства воюют, – перебил его Давиль.
– Воюют. Но разница в том, что мусульманские государства воюют без лицемерия и не противоречат себе. Они смотрят на войну как на важную часть своей миссии в мире. Ислам пришел в Европу как воюющая сторона и удерживается здесь или с помощью войн, или благодаря междоусобным войнам христианских государств. Христианские же государства, насколько мне известно, осуждают войну, искони возлагая ответственность за всякую войну друг на друга, но, осуждая войны, не перестают воевать.
– Несомненно, в словах ваших много правды, – поощрительно заметил Давиль, с задней мыслью навести разговор на русско‑французские столкновения и узнать мнение тефтедара на этот счет, – но неужели вы думаете, что русский царь захочет навлечь на себя гнев величайшего христианского государя и самую сильную армию в мире?
Взгляд тефтедара стал еще более светлым, еще более косым.
– Мне не дано знать намерения императора, уважаемый господин Давиль, но позвольте обратить ваше внимание на один факт, давно мною замеченный, а именно на то, что война постоянно ведется на территории Европы, лишь передвигаясь с одного ее конца на другой, подобно тому как человек перекатывает на ладони горячий уголек, чтобы меньше жег. В данный момент война где‑то около европейских границ России.
Давиль понял, что и тут он ничего не узнает из того, что его интересует и мучит, потому что и этот человек, как и визирь, говорил только о том, что ему диктовала минутная внутренняя потребность. И все же ему захотелось сделать еще одну попытку, причем грубо и непосредственно.
– Известно, что главной целью русской политики является в данное время освобождение своих единоверцев, а значит, и здешних краев, от турецкой власти. И потому многие считают более вероятным, что в действительности военные планы России направлены против Турции, а не против западноевропейских государств.
Тефтедар не смутился.
– Как сказать? Не всегда случается то, что кажется наиболее вероятным. Но если бы и случилось так, как «многие считают», то не трудно предвидеть ход событий, ибо всем известно, что все эти земли добыты войной, охраняются войной и в войне их можно потерять, если уж так суждено. Но это ничего не меняет из того, что я сказал.
И Тахир‑бег упрямо вернулся к своей теме:
– Обратите внимание, и вы увидите, как верно то, что везде, куда простирает свою власть христианская Европа со своими обычаями и устройством, возникают войны между христианскими народами. И в Африке, и в Америке, и в европейской части Оттоманской империи, вошедшей в состав христианского государства. И если когда‑нибудь волею судьбы мы лишимся этих земель и ими завладеет одно из христианских государств, как вы только что упоминали, и тут произойдет то же самое. Таким образом, через сто – двести лет на этом самом месте, где мы в данный момент беседуем с вами о возможности турецко‑христианской войны, будут вести между собой кровопролитные сражения христиане, освобожденные от оттоманского владычества.
И Тахир‑бег громко рассмеялся, нарисовав такую картину. Давиль из вежливости тоже засмеялся, желая придать беседе приятный и безобидный оттенок, хотя он и был разочарован и недоволен направлением, которое принял разговор.
Под конец опять взяли верх размышления Тахир‑бега о весне, о молодости, ее вечности, хотя и не вечны те, что молоды, о дружбе и добром соседстве, благодаря которым эти неприятные края становятся приятными и терпимыми.
Давиль выслушивал все с улыбкой, стараясь скрыть свое недовольство.
Возвращаясь из Конака, Давиль, как часто случалось, обменялся несколькими словами с Давной.
– Как, по‑вашему, выглядит Тахир‑бег? – спросил Давиль, чтобы как‑то начать разговор.
– Больной человек, – сухо ответил Давна и замолчал. Лошади их снова поравнялись.
– Но по виду он хорошо поправился на этот раз.
– Это как раз и плохо, что он часто поправляется. Поправляясь так все чаще и чаще, он в один прекрасный день…
– Вы думаете? – И Давиль вздрогнул от удивления.
– Ну да. Видели, какие у него руки и глаза? Этого человека лишь смерть избавит от страданий, он живет на одних наркотиках, – тихим голосом строго и твердо закончил Давна.
Давиль ничего не ответил. Теперь, после слов Давны, восстанавливая в памяти разговор с Тахир‑бегом, Давиль понял, что говорил тот действительно бессвязно и вел себя слишком напряженно. Лишь улыбка и жесты напоминали прежнего тефтедара.
Грубый и сугубо деловой тон, каким Давна сообщил об этом, почему‑то оскорбил Давиля, болезненно задел его и причинил личную обиду. Пришпорив коня, он опередил Давну. Это было знаком, что разговор окончен. «Удивительно, – думал Давиль, глядя на широкую спину унтерофицера визиря, ехавшего впереди него и расчищавшего дорогу, – удивительно, что здесь никто не чувствует ни милосердия, ни того естественного сострадания, какое мгновенно вспыхивает у нас при виде всякого чужого горя. В этих краях, чтобы вызвать сожаление, надо быть нищим, погорельцем или калекой. Но между равными людьми сожаления нет. Можно прожить тут сто лет и все же не привыкнуть к сухости, к этой своего рода душевной нищете и грубой бесцеремонности в отношениях людей и не очерстветь настолько, чтобы это не оскорбляло и не обижало».
Внезапно и отрывисто, как взрыв, раздался над ним голос муэдзина с Пестрой мечети. В этом резком голосе дрожала и переливалась сильная, воинственная и гневная набожность, переполнявшая, по‑видимому, грудь муэдзина. Был полдень. С другой, невидимой мечети раздался голос второго муэдзина. Взволнованный и низкий, он с истовой верой вторил голосу базарного муэдзина. Эти два голоса, перекликаясь и исчезая в воздухе, сопровождали Давиля и его спутника до самого консульства.
На благовещение исполнился год со дня крещения дочки Давиля. Воспользовавшись этим случаем, он пригласил к обеду фон Паулича и долацкого приходского священника Иво Янковича с капелланом. Монахи приглашение приняли, но сразу было видно, что они отнюдь не изменили своего отношения к консульству. Оба были подчеркнуто учтивы, но смотрели не прямо в глаза Давилю, а исподлобья и искоса, куда‑то мимо плеча. Давилю был знаком этот взгляд боснийцев (он привык к нему за годы общения с ними), и он хорошо знал, что бороться с тем, что скрывается за этим взглядом, невозможно ни добром, ни силой. Он хорошо знал эту затаенную и болезненную черту характера боснийцев, столь чувствительных, когда дело касалось их самих, сколь крутых и грубых, когда дело шло о других. И он готовился к этому обеду, как к трудной игре, когда заранее знаешь, что выиграть невозможно, а играть надо.
До и во время обеда разговор касался общих тем и был фальшиво слащавым и безобидным. Фра Иво ел и пил столько, что его и без того красное лицо стало багровым, а язык развязался. На молодого капеллана обильный обед подействовал иначе – он побледнел и стал молчаливее.
Закурив, фра Иво положил на стол огромный кулак правой руки с длинными рыжими волосами у запястья и без всякого предисловия начал разговор о взаимоотношениях святого престола с Наполеоном.
Давиль был удивлен осведомленностью монаха об отдельных фазах борьбы между папой и императором. Он знал все подробности о национальном соборе, созванном Наполеоном в прошлом году в Париже, о сопротивлении французских епископов, а также все места, где папа был заключен, все перипетии принудительного воздействия, которому он был подвергнут.
Консул начал защищать и объяснять поведение французов. (Но собственный голос казался ему неуверенным и неубедительным.) При этом он старался повернуть разговор на теперешнее положение в мире, надеясь хоть таким образом узнать, что думает и чего ожидает от ближайщего будущего этот монах, а с ним и его собратья и весь народ. Но монах и не помышлял пускаться в общие рассуждения. Он знал только то, что следовало из его страстной натуры и фанатических убеждений. При всех других вопросах он обращал взгляд на фон Паулича, сидевшего чуть подальше и беседовавшего с госпожой Давиль. Ясно, что монаху не было никакого дела ни до русских, ни до французов. Своим свистящим голосом, казавшимся необыкновенно высоким для такого дородного человека, он продолжал предсказывать самое мрачное будущее народу, который так поступает с церковью и ее главой.
– Не знаю, господин консул, куда двинется ваша армия – в Россию или в какую‑то другую страну, – отвечал монах на вопрос Давиля, желавшего узнать, на чьей стороне в этом случае были бы его симпатии, – но я достоверно знаю и говорю вам с полной откровенностью, что нигде ей не будет благословения, куда бы она ни двинулась, потому что кто так поступает с церковью…
И снова посыпался ряд жалоб с цитатами из последней папской буллы против Наполеона «о новых и все более глубоких ранах, наносимых ежедневно апостольской власти, правам церкви, святости веры и нам лично».
При виде этого грузного, мрачного и упрямого монаха Давилю, как уже бывало за эти годы неоднократно, пришла в голову мысль, что человек этот просто переполнен злобой и упрямством, сквозившими в каждом его слове, в самом голосе, и что все, о чем он думает и говорит, в том числе и сам папа, служит лишь желанным предлогом для проявления злобы и упрямства.
Рядом с толстым фра Иво сидел неподвижный капеллан, его безмолвный портрет в миниатюре, похожий на него и поведением и манерами. Правую руку, сжатую в кулак, он тоже положил на стол; только кулак был небольшой и белый, с едва заметным пушком рыжих волос.
На другом конце стола шла оживленная беседа между госпожой Давиль и фон Пауличем. С самого приезда подполковника в Травник она была удивлена и очарована его искренним интересом ко всему, что относилось к дому и хозяйству, и его поразительным знанием домашних дел и нужд. (Так же, как Давиль был удивлен и очарован его знанием Вергилия и Овидия. Так же, как в свое время фон Миттерер был удивлен и напуган его знанием военного дела.) Когда бы ни встретились, они легко находили бесконечные и приятные темы для разговора. И сейчас они толковали о мебели, о том, как сохранять вещи в здешних условиях.
Знания подполковника были, казалось, действительно неисчерпаемы и безграничны. На любую тему он говорил так, будто только она одна и занимала его в данное время, но все с той же холодной и отдаленной объективностью, не внося ничего своего, личного. И теперь он рассуждал о влиянии сырости на разные породы дерева, на морскую траву и конский волос в креслах со знанием дела и опытом, а также с научной объективностью, словно речь шла о мебели вообще, а не о нем и его личных вещах.
Фон Паулич говорил медленно на своем книжном, но изысканном французском языке, так приятно отличавшемся от невыносимо испорченного словаря и быстрого левантийского выговора фон Миттерера. Госпожа Давиль помогала ему, подсказывая слова, которых ему иногда недоставало.
Она была счастлива, что может говорить с этим вежливым и педантичным человеком о вещах, составлявших главную заботу и подлинное содержание ее жизни. В разговоре, как в работе и на молитве, она всегда была одинаково открытой и благожелательной, без побочных мыслей и колебаний, полная твердой веры в небо и землю, во все, что может произойти и что люди в состоянии сделать.
Слушая разговоры и глядя на все эти лица вокруг себя, Давиль думал: они спокойны и счастливы, знают, хотя бы в данный момент, чего хотят, и только я страшусь и волнуюсь за завтрашний день, переутомлен и несчастен, и принужден к тому же скрывать все это и носить в себе, ничем не выдавая.
Иво Янкович прервал течение его мыслей: по своему обыкновению, он быстро поднялся, резко окликнул молодого капеллана, словно тот был причиной, что они засиделись, и громогласно заявил, что уже поздно, а до дома далеко, да и дела ждут.
Это придало встрече еще большую холодность.
Той же весной в Травник приехали по делам православной церкви митрополит Калиник и викарный епископ владыка Иоанникий. Давиль пригласил их на обед все с той же целью – узнать их мнение о назревающих событиях.
Митрополит был человек упитанный, рыхлый и болезненный, носил очки с толстыми стеклами (неодинаковой толщины), из‑за которых глаза его казались страшно обезображенными и бесформенными, словно они каждую минуту могли разлиться по лицу. Он был фанариотски сладкоречив и о всех великих державах отзывался одинаково хвалебно и примирительно. Вообще в его распоряжении было лишь несколько выражений для всех вещей и понятий, неизменно хвалебных и положительных, которыми он и пользовался в разговоре, наугад, не разбирая, даже не слушая, о чем идет речь. Такая презрительная и нарочитая учтивость, плохо скрывающая полнейшее равнодушие ко всему, что говорят и что может быть сказано, часто бывает свойственна престарелым священникам всех вероисповеданий.
Совсем другим человеком был владыка Иоанникий, рослый и могучий монах, обросший черной бородой, с сердитым выражением лица и решительными, какими‑то военными манерами, словно он под черной рясой носил панцирь и тяжелое вооружение. Турки сильно подозревали этого владыку в сношениях с повстанцами в Сербии, но доказать не могли.
На вопросы Давиля он отвечал кратко, резко и откровенно:
– Вам бы хотелось знать, стою ли я за русских, а я вам скажу, что мы за того, кто поможет нам продержаться и со временем освободиться. Вы‑то, живя здесь, знаете, каково нам приходится и что мы принуждены терпеть. А потому никто не должен удивляться…
Митрополит повернулся к владыке и остерег его взглядом своих лишенных выражения глаз, страшно расплывшихся за толстыми стеклами очков, но владыка твердо продолжал:
– Христианские государства сражаются между собой, вместо того чтобы объединиться и совместными усилиями постараться положить конец всему этому страданию. Это ведь длится веками, а вам хотелось бы знать, за кого мы…
Митрополит снова обернулся, но видя, что взгляд не помогает, набожно затараторил:
– Да сохранит и поддержит господь бог все христианские державы, богом созданные и им охраняемые. Мы всегда молим господа…
Но теперь владыка быстро и резко прервал митрополита:
– За Россию мы, господин консул, и за освобождение православных христиан от нехристей! Вот мы за кого, а кто скажет по‑другому, не верь тому.
Митрополит снова вмешался и посыпал любезностями, уснащая свою речь сладостными прилагательными, которые Давна переводил скороговоркой, неточно и выборочно.
Давиль смотрел на мрачного владыку. Тот дышал тяжело и прерывисто, его свистящий голос лился не ровно и плавно, а толчками, с какими‑то всхлипываниями, словно это были взрывы безудержного, долго скапливаемого гнева, наполнявшего все его существо и вырывающегося с каждым словом и движением.
Давиль делал все возможное, дабы объяснить митрополиту и владыке намерения своего правительства и представить их в наилучшем свете, но он и сам не верил в возможность успеха, так как ничто не могло согнать с лица владыки оскорбленно‑гневного выражения; митрополиту же было вообще безразлично, кто что говорит, и потому он слушал человеческую речь как журчание, лишенное значения, всегда с одинаково вежливой невнимательностью и равнодушием, с тем же слащаво‑неискренним одобрением.
Вместе с архиереями в консульство прибыл и Пахомий, тощий, бледный иеромонах, обслуживающий травницкую церковь. Этот болезненный, согбенный человек, вечно с кислым и перекошенным лицом, как у людей, страдающих желудком, очень редко бывал в консульстве; обычно он отказывался от приглашения, ссылаясь то на страх перед турками, то на нездоровье. Когда же Давиль при встречах пытался, любезно с ним поздоровавшись, вовлечь его в разговор, он сгибался еще больше и еще сильнее кривил лицо, а бегающий взгляд его (Давилю хорошо был знаком этот взгляд боснийцев) смотрел не в глаза, а исподлобья и искоса, попеременно, то на одно, то на другое плечо собеседника. Только с Давной он иногда разговаривал свободнее.
И сегодня, придя по обязанности со своими старшими, он сидел, сжавшийся и молчаливый, как нежеланный гость, на краешке стула, словно готов был убежать каждую минуту, и все время смотрел прямо перед собой, не проронив ни слова. Но когда через два‑три дня после отъезда митрополита Давна встретил его на улице и повел разговор «по‑своему», желтый и хилый иеромонах вдруг ожил и заговорил и взгляд его стал острым и прямым. С каждым словом разговор все оживлялся. Давна вызывающе уверял его, что все народы любой веры, еще хранящие какие‑то надежды, должны обратить свои взоры на всемогущего французского императора, а не на Россию, которую французы еще этим летом покорят как последнюю европейскую державу, ей не подвластную.
Большой и обычно судорожно сжатый рот иеромонаха вдруг широко раскрылся, и на болезненно искривившемся лице показались белые, красивые и крепкие, как у волка, зубы; по обеим сторонам рта пролегли незнакомые складки лукавой и насмешливой радости; запрокинув голову, иеромонах засмеялся неожиданно громко, издевательски и весело, так что Давна даже удивился. Это длилось мгновение. И тут же лицо Пахомия приняло свое обычное выражение, снова стало маленьким и сморщенным. Он быстро оглянулся вокруг, желая убедиться, не подслушивает ли кто, приблизил лицо к правому уху Давны и низким живым голосом, соответствовавшим не его теперешнему, а недавнему насмешливому выражению лица, сказал:
– Выкинь ты это из головы, сосед, вот что я тебе скажу.
Доверительно склонившись, иеромонах произнес эти слова дружелюбно и бережно, словно даря ему что‑то очень ценное. И торопливо попрощавшись, продолжил свой путь, минуя, как всегда, базар и главные улицы и выбирая боковые.
XXII
Судьбы чужестранцев, заброшенных в эту тесную и сырую долину на неопределенный срок и принужденных жить в необычных условиях, быстро определялись. Необычные условия ускоряли внутренние процессы, начавшиеся в них еще до приезда сюда, и настойчиво и беспощадно подчиняли их прирожденным инстинктам. Инстинкты же эти развивались и проявлялись тут в таких размерах и формах, в каких при других обстоятельствах, может быть, никогда бы не развились и не проявились.
Уже в первые месяцы по приезде фон Паулича стало Достаточно ясно, что отношения между новым генеральным консулом и переводчиком Николой Роттой будут нелегкими, приведут к столкновениям и рано или поздно – к разрыву. Потому что трудно было найти в мире двух столь противоположных людей, как бы заранее обреченных на столкновение.
Холодный, сдержанный и вылощенный подполковник, создавший вокруг себя атмосферу ледяного холода и кристальной ясности, повергал в смущение тщеславного и раздражительного толмача, одним своим присутствием вызывая в нем бесчисленные, судорожные и путаные расчеты, до той поры дремавшие или подавленные. Но сказать, что отталкивание этих людей было взаимным, нельзя, потому что на самом деле только Ротта отскакивал от подполковника как от огромной и неподвижной льдины, и, что еще важнее, в силу какого‑то неумолимого, рокового закона снова и снова наталкивался на эту самую льдину.
Никогда бы не пришло в голову, что такие умные, справедливые и во всех отношениях холодные люди могут оказывать на кого бы то ни было столь решающее и разрушительное воздействие. Между тем в данном случае было именно так. Ротта находился на той стадии внутреннего распада и пустоты, когда такой начальник неминуемо до 1жен был означать для него гибель. Спокойствие и прямо‑таки нечеловеческая объективность подполковника были ядом для уже отравленного толмача. Если бы его новый начальник оказался мягким и уступчивым, каким был фон Миттерер, или горячим и неровным, обуреваемым человеческими страстями, даже и наихудшими, он бы еще какнибудь выдержал. В первом случае он использовал бы попустительство старшего, а во втором его низменные и переплетающиеся инстинкты нашли бы себе точку опоры и поддержку, сталкиваясь с подобными же инстинктами, и при этих постоянных столкновениях и трениях он мог бы сохранить известное равновесие. Но с таким начальником, как фон Паулич, Ротта вел себя подобно одержимому, который бросается на ледяную стену или на фантастический сноп света.
Уже самыми своими взглядами, манерами и поведением фон Паулич означал для Ротты серьезную и тяжелую перемену к худшему. Прежде всего, фон Паулич гораздо меньше нуждался в Ротте, чем фон Миттерер, которому он стал со временем необходим. Для фон Миттерера он служил чем‑то вроде укрытия в самых трудных и грубых служебных столкновениях или как перчатки при выполнении наиболее отвратительных операций. Кроме того, во многих случаях, а за последние годы все чаще, переводчик был своего рода негласным его заместителем. Во время семейных кризисов или служебных неприятностей, когда у фон Миттерера бывала парализована воля, чему способствовало переутомление или приступы печени, Ротта брал дело в свои руки, уже одним этим вызывая у обессилевшего человека чувство облегчения и признательности. А самое «дело» разрешалось весьма просто, потому что в нем не было ничего трудного, и только фон Миттереру в его состоянии в тот момент оно казалось безвыходным и неразрешимым.
Ни о чем подобном с новым начальником, разумеется, не могло быть и речи. Для фон Паулича вся его деятельность являлась ровной и размеренной, как шахматная доска, на которой он играл со спокойствием и хладнокровием игрока, который долго думает, но не испытывает ни страха перед тем, как сделать ход, ни раскаяния потом, не нуждаясь ни в чьих советах, защите или поддержке.
Кроме того, стиль работы фон Паулича лишал переводчика последнего удовольствия, оставшегося ему в его бесцельно прожитой и бесцветной жизни. Надменное и дерзкое обращение с посетителями и подчиненными, со всеми, кто не мог ничего ему сделать или зависел от него, было для Ротты хоть и мизерной, но последней и единственной радостью, жалкой иллюзией и видимым признаком власти, за которую он понапрасну отдал свою душу, силу и молодость.
Когда он, напыщенный и побагровевший, разносил, разгорячившись, человека, который не мог, не смел или не умел ему ответить, Ротта ощущал, правда только на мгновение, – зато на какое дивное мгновение! – глубокое наслаждение и безмерное счастье от сознания, что он обрушился на кого‑то, сломал, уничтожил, что он стоит над поверженным противником, готовым провалиться сквозь землю, и что сам он вознесен над простыми смертными довольно высоко, хотя и недостаточно высоко для того, чтобы они могли видеть, измерять и чувствовать его величие. А вот теперь подполковник лишал его и этого призрачного счастья.
Одно его присутствие уже исключало подобное обращение. Под взглядом его темно‑синих, холодных глаз не выдерживала никакая иллюзия, разрушался всякий самообман, превращаясь в то самое ничто, из которого они возникали.
Уже в первые недели при первом удобном случае фон Паулич сказал Ротте, что с людьми можно говорить спокойно и добром добиваться от них желаемого. Во всяком случае, он не хотел, чтобы кто‑нибудь из его служащих разговаривал так с кем бы то ни было в здании консульства или на улице. Тогда первый и последний раз переводчик попытался воздействовать на нового консула, навязать ему свой образ мыслей. Но это оказалось невозможным. Ротта, обладавший беспримерной находчивостью и дерзостью, почувствовал себя словно связанным. У него задергались уголки рта, еще ниже опустились веки, и, щелкнув повоенному каблуками, он язвительно сказал, откинув голову: «Будет выполнено, господин подполковник», – и вышел.
То ли по забывчивости, то ли из желания испытать силу и твердость нового начальника, Ротта еще дважды попытался, войдя в раж, накричать на слуг в нарушение приказа фон Паулича. После второй выходки подполковник призвал переводчика и сказал ему, что, если он еще раз позволит себе так обращаться с подчиненными, даже и в менее грубой форме, к нему немедленно будет применен параграф регламента, предусматривающий повторный случай грубого нарушения дисциплины. При этом Ротта увидел, как синие глаза подполковника сузились и в самых уголках блеснули две убийственно острые искорки, совершенно изменившие его взгляд и выражение лица. С этого времени напуганный толмач ушел в себя и стал тайно и незаметно, но с той же яростью и напористостью, с какими раньше набрасывался на свои жертвы, накапливать в себе ненависть к начальнику.
Фон Паулич, смотревший на Ротту хладнокровно и просто, как и на все на свете, старался по возможности меньше прибегать к его услугам; он посылал его курьером в Брод и Костайницу в расчете на то, что фон ^1иттерер, получив новое назначение, пожелает использовать Ротту и вызовет его к себе. Сам же он не хотел ничего предпринимать для удаления Ротты из Травника. Но и Ротта, как ни странно, не стремился покинуть службу, где, как он сам видел, его не ожидало ничего хорошего, а будто завороженный продолжал находиться в орбите своего ясного, холодного начальника, находясь с ним в постоянном и все обостряющемся конфликте, больше, правда, в душе, чем на деле.
Давна, знавший все или, во всяком случае, догадывавшийся обо всем, что происходило в Травнике, быстро уяснил себе положение Ротты в консульстве и сразу сообразил, что из этого можно будет впоследствии извлечь выгоду для французских интересов. И как‑то во время одного из тех разговоров, которые эти два толмача имели обыкновение вести при встрече где‑нибудь на базаре или по дороге в Конак, Давна в шутку сказал, что Ротта всегда может в случае надобности найти защиту во французском консульстве. Ротта ответил шуткой на шутку.
После первых столкновений между фон Пауличем и Роттой наступило глухое затишье, длившееся целый год. Если бы подполковник досаждал своему переводчику работой, предъявлял чрезмерные требования, если бы он выказывал ему свою ненависть или недоброжелательство, Ротта, быть может, сдержался бы и нашел в себе достаточно терпения вынести нового начальника. Но холодность фон Паулина и манера просто‑напросто не замечать Ротту должны были рано или поздно привести к разрыву.
Весной 1812 года в австрийском консульстве назрел кризис. Маленький, горбатый толмач не мог больше жить, оставаясь неприметным, стесненным рамками своей основной должности и вынужденным обуздывать свои неодолимые инстинкты и закоренелые привычки. Теряя над собой власть, он обрушивался на прислугу и младших чиновников консульства и, воюя с ними, посылал по адресу своего начальника недвусмысленные угрозы и пожелания и хоть этим облегчал себе жизнь. Дошло наконец и до столкновения с фон Пауличем. И когда подполковник холодно заявил, что прибегнет к регламенту и отошлет неподчиняющегося и зазнавшегося переводчика в Брод, Ротта в первый раз нашел в себе силы открыто и дерзко возразить ему, заявив во всеуслышание, что консул не имеет на это права, а вот он, Ротта, может отправить консула куда‑нибудь и подальше Травника. Фон Паулич приказал выкинуть вещи Ротты и запретить ему доступ в консульство. Одновременно он сообщил каймакаму, что' Никола Ротта не состоит больше на службе в австрийском генеральном консульстве, не пользуется его покровительством и пребывание его в Травнике нежелательно.
Оказавшись выброшенным, Ротта сразу же обратился к Давне и через его посредство испросил защиты французского консульства.
Со времени приезда консулов и открытия консульств в Травнике не было большего скандала. Даже странное вероотступничество и таинственная смерть Марио Колоньи не вызвали такого волнения, беготни и разговоров. Те события произошли во время общего восстания, являясь как бы его составной частью, тогда как теперь времена были мирные. И главное, «иллирийский доктор» умер и умолк навеки, а Ротта продолжал существовать и орал громче, чем когда‑либо.
Уход Ротты от своего консула и отречение от своего государства рассматривались всеми как большой успех Давны. Но Давна отрицал это и сохранял вид умеренного и разумного триумфатора. На самом деле он старался как можно выгоднее использовать положение Ротты, но действовал осторожно и не спеша.
У Давиля случай этот, как и многие другие события раньше, вызывал неприятное раздвоение. Он, конечно, не мог и не смел отказаться от всех выгод, которые сулил для Франции уход Ротты. Горбатый толмач, подстрекаемый обстоятельствами и своей натурой, все сильнее скатывался к полной и открытой измене, постепенно выдавая все, что знал о работе и намерениях своих начальников. Но, с другой стороны, для Давиля была оскорбительна и неприятна необходимость прикрывать своим авторитетом заговор двух беспринципных и подлых толмачей‑левантинцев против столь благородного и умного человека, каким был фон Паулич. В душе он больше всего желал, чтобы вся эта история поскорее улеглась и затихла, как только Давна вытянет из Ротты все, что нужно. Но это вовсе не входило в расчеты толмачей, в особенности Ротты. В борьбе противфон Паулича он нашел достойное применение своим затаенным страстям и стремлениям. Он посылал длинные письма не только консулу, но и коменданту в Броде, и в министерство в Вене, сообщал о случившемся, умалчивая, конечно, о том, что вступил в связь с французским консульством. В сопровождении телохранителя из французского консульства он подходил к австрийскому консульству и, вызывая публичные сцены и громкие ссоры, требовал какие‑то свои вещи, предъявлял вымышленные претензии; бегал, запыхавшись, по городу, ходил в Конак и к каймакаму. Одним словом, Ротта наслаждался скандалом, как потерявшая стыд взбалмошная баба.
Фон Паулич, по‑прежнему хладнокровный, все же допустил ошибку, официально потребовав, чтобы каймакам арестовал Ротту как простого вора, выкравшего служебные документы. Это принудило Давиля послать каймакаму письмо с извещением, что Ротта находится под покровительством Франции, а потому не может быть ни арестован, ни выслан. Копию этою письма он направил фон Пауличу, заявив, что сожалеете случившемся, но иначе поступить не мог, потому что Ротта, хоть он человек неуравновешенный и неприятный, ни в чем не замешан и ему нельзя было отказать в защите французского консульства.
Фон Паулич ответил резко, протестуя против действий французского консульства, берущего под свое покровительство платных шпионов, растратчиков и предателей. Он просил, чтобы впредь Давиль на каждом посылаемом ему письме помечал, что речь в нем идет не о Ротте. В противном случае он будет возвращать письма нераспечатанными, пока длится это безобразное столкновение из‑за Ротты.
Это, в свою очередь, обидело и огорчило Давиля: случай с Роттой становился все тяжелее и неприятнее.
Старый, мрачный каймакам, очутившись в центре конфликта двух консульств, из которых одно решительно требовало арестовать Ротту, а другое не менее решительно протестовало против этого, был в замешательстве и одинаково раздражен против обоих, а больше всего против Ротты. По нескольку раз в день он, сопя, бормотал себе под нос:
– Подрались собаки, да еще на моем дворе.
Через посланного он сообщил консулам, что скорее согласится уйти в отставку, чем допустит, чтобы они сражались тут в Травнике за его и без того перегруженной спиной, когда императоры их живут в мире. Он вовсе не желал вмешиваться в дела консульств, а тем более из‑за этого сумасброда, простого слуги и рассыльного, который в качестве такового не должен был бы стать предметом пререканий между чиновниками императоров и достойными господами. А самому Ротте строжайше приказал утихомириться и подумать о своей голове, так как из‑за него вот уже несколько недель волнуются лучшие люди города, где до сих пор царил покой, как на молитве, а он этого не стоит, если б даже имел золотую голову и ум визиря. Если он согласен жить в Травнике спокойно и честно, ладно, но если будет баламутить город, бегая из одного консульства в другое, вызывая ссоры и вовлекая в ни мусульман и христиан, то пусть выбирает одну из двух дорог, ведущих из Травника, и как можно скорее.
А Ротта действительно взбаламутил весь город своим скандалом, в который втянул кого только мог. Он нанял верхний этаж в доме некоего Перо Калайджича, бобыля, пользовавшегося дурной славой. Призвав кузнецов‑цыган, велел вделать в окна железные решетки и устроить специальные запоры на всех дверях. Кроме двух хороших английских пистолетов, которые всегда лежали у него в изголовье, он приобрел ружье, порох и свинцовые пули. Он сам себе готовил пищу, боясь отравы, сам убирал квартиру, боясь воровства и подвоха. В комнатах Ротты царила холодная пустота, какая бывает в квартирах холостяков или уединившихся чудаков. В доме скапливалось всякое тряпье и отбросы, на всем оседали копоть и пыль. И всегда неприглядный, дом этот становился все более запущенным и снаружи.
И сам Ротта быстро менялся, сдавал и опускался. Он стал неопрятен в одежде. Рубашки носил мягкие, мятые и редко их менял, на черном галстуке виднелись следы пищи, обувь была нечищена и стоптана. В его седых волосах появились желто‑зеленые переливы, под ногтями была грязь, он часто ходил небритый и распространял запах кухни и вина. И по манере держаться это был уже не прежний Ротта. Он не шагал больше, закинув голову, выбрасывая ноги и глядя свысока, а бегал по городу какими‑то мелкими, деловитыми шажками, доверительно шептался с теми, кто еще соглашался его выслушивать, или громко и вызывающе порицал австрийского консула в Травнике, расплачиваясь со слушателями шкаликами ракии, к которой он пристрастился еще сильнее. С каждым днем с него спадала тонкая позолота былого достоинства, иллюзорной силы и значения.
Так жил в Травнике Никола Ротта, уверенный, что ведет великую борьбу против своих могущественных и разнородных врагов. Ослепленный своей болезненной ненавистью, он ле замечал происходящей в нем перемены, не замечал собственного падения и того, что в этом своем падении быстро совершает обратный путь к точке, откуда начал долгое и мучительное восхождение. Он чувствовал, как собираются воедино бесчисленные мелкие обстоятельства и как незаметное, но сильное течение несет его назад к жизни, которую он оставил ребенком в нищенском квартале San Giusto в Триесте, несет прямо в объятия ужасных бед и пороков, от которых он что было сил бежал тридцать лет тому назад и долгое время верил, что в самом деле от них избавился.
XXIII
Давиль возмущался молочным суеверием, но постоянно ловил себя на том, что поддается ему. Он считал, например, что летние месяцы в Травнике приносят несчастья и неприятные сюрпризы. И это вполне естественно, говорил он себе. Летом начинаются все войны и все восстания. Вообще летом дни длиннее, и у человека остается больше времени, а следовательно, и возможностей для всяких глупостей и мерзостей, являющихся его постоянной и глубокой потребностью. Но, не успев закончить всех этих объяснений, он вновь ловил себя на той же суеверной мысли: лето приносит неприятности, и летние месяцы («те, в названии которых нет звука „р“) во всех отношениях опаснее других.
Этому лету предшествовали плохие предзнаменования.
В один из майских дней, хорошо начавшийся двухчасовой работой над поэмой «Александриада», Давиль беседовал с молодым Фрессине, приехавшим, чтобы доложить ему о тяжелом положении «французского постоялого двора» в Сараеве и о всех трудностях французской транзитной торговли через Боснию.
Молодой человек сидел на веранде, окруженный цветами, и говорил, как все южане, оживленно и быстро.
Он уже второй год жил в Сараеве. За это время он только раз побывал в Травнике, но постоянно переписывался с генеральным консулом. И в письмах его все усиливались жалобы на людей и условия жизни в Сараеве. Молодой человек казался совершенно разочарованным и обескураженным. Он похудел, чуть облысел и приобрел нездоровый цвет лица. Руки у него, как заметил Давиль, слегка дрожали, а в голосе чувствовалась горечь. От спокойной ясности, с какой он все предусматривал и распределял во время своего первого посещения летом позапрошлого года в этом самом цветнике, не осталось и следа. («Восток, – подумал Давиль с тем подсознательным злорадным удовольствием, с каким мы подмечаем в других признаки болезни, от которой страдаем сами, – Восток проник в кровь этого молодого человека, подорвал его силы, лишил покоя и озлобил».)
Фрессине был в самом деле и огорчен и обескуражен. Раздражение, недовольство всем и вся, овладевающее людьми Запада, попавшими в эти края по делам, как видно, переполняло его до краев, и у него не было сил ни справиться с ним, ни скрыть его.
Предложения его были радикальными. Надо все ликвидировать, и чем скорее, тем лучше, и искать иных путей через какие‑то другие края, где с людьми можно жить и работать.
Давиль отлично понимал, что Фрессине отравлен «ядом Востока» и находится в той стадии болезни, когда человек, как в лихорадке, ни в чем не отдает себе отчета и ни о чем не может судить правильно, но каждым своим нервом и каждой мыслью протестует и борется с окружающим. Ему было настолько знакомо и понятно такое состояние, что по отношению к Фрессине он мог играть роль здравомыслящего старшего товарища, который утешает и успокаивает. А молодой человек воспринимал всякое утешение как личное оскорбление и обиду.
– Нет, – язвительно замечал он, – в Париже понятия не имеют о том, как здесь живут и работают; этого никто не представляет. Только имея дело с этим народом и живя среди него, можно узнать, до какой степени ненадежны, надменны и неотесанны эти боснийцы и как они коварны. Только нам это известно.
Давилю казалось, что он слушает свои собственные слова, которые столько раз произносил и писал. Он слушал внимательно, не спуская глаз с Фрессине, дрожавшего от сдерживаемого раздражения и глубокого отвращения. «Так вот каким я выглядел в глазах Дефоссе и всех тех, кому я повторял то же самое, точно так же и таким же тоном», – думал Давиль. А вслух продолжал утешать и успокаивать взволнованного молодого человека.
– Да, условия тяжелые, мы все испытали это на себе, но надо иметь терпение. Ум и достоинство французов должны в конце концов преодолеть их своенравие и надменность. Только надо…
– Надо бежать отсюда, господин генеральный консул, и как можно скорее. Иначе тут потеряешь и достоинство, и ум, отдашь все силы, не добившись ничего. Это, во всяком случае, верно относительно того дела, ради которого я сюда приехал.
«Та же самая болезнь, те же симптомы», – думал Давиль, успокаивая и уверяя Фрессине, что необходимо потерпеть и подождать, ибо нельзя просто‑напросто бросить дела, что в великом плане континентальной системы и организации европейского единства Сараево играет важную, хотя и неблагодарную роль и всякое ослабление в каком‑то пункте может поставить под вопрос замысел императора в целом и помешать его осуществлению.
– Это наша доля в общих тяжелых усилиях, и мы должны выдержать, как бы нам ни было трудно. Если даже нам неясны общий замысел и направление плана, выполнению которого содействуем и мы, результаты не преминут сказаться, но при условии, что каждый на своем месте проявит достаточно выдержки и не сдаст позиций. А надо всегда помнить, что провидение послало нам величайшего государя всех времен, который управляет всем, а значит, и нашей судьбой, и мы можем слепо на него положиться. Судьба мира случайно находится в его руках. Его гений и счастливая звезда приведут все к благополучному завершению. В надежде на это мы можем спокойно и уверенно заниматься своими делами, невзирая на очень большие трудности.
Давиль говорил медленно и спокойно, внимательно прислушиваясь к себе и с удивлением замечая, что находит те слова и доводы, которых никогда не умел найти при своих каждодневных колебаниях и сомнениях. Он становился все более красноречивым и убедительным. С Давидом произошло то, что случается со старой няней, которая, убаюкивая ребенка, рассказывает ему бесконечную сказку и сама засыпает рядом с бодрствующим ребенком. К концу разговора Давиль успокоил и убедил себя, а Фрессине, которому сараевские торговцы и возчики отравили жизнь, только тихо покачивал головой и смотрел с горькой усмешкой, а лицо его, на котором уже появились признаки плохого пищеварения и разлившейся желчи, слегка подергивалось.
В эту минуту вошел Давна и, извинившись, что прерывает разговор, тихонько сообщил консулу, что вчера вечером из Стамбула прибыл гонец с известием о начавшейся в гареме Ибрагим‑паши эпидемии. Чума, свирепствовавшая в течение последних недель в Стамбуле, проникла и в дом визиря на Босфоре. За короткий срок умерло пятнадцать человек, большинство из прислуги, но также и старшая дочь визиря и двенадцатилетний сын. Остальные домочадцы убежали в горы, в глубь страны.
Слушая печальные вести, принесенные Давной, Давиль ясно видел перед собой широкое лицо смешно разодетого визиря, всегда слегка откинувшегося вправо или влево, словно он старался уклониться от новых ударов судьбы.
По совету Давны и в соответствии с добрым восточным обычаем решено было не просить аудиенции у визиря сразу, а подождать несколько дней, пока улягутся немного первые и самые тяжелые впечатления.
Возобновив разговор с Фрессине, Давиль, только что соприкоснувшийся с чужим горем, почувствовал себя еще более умудренным и выносливым. Смело и без всяких колебаний он обещал молодому человеку приехать в следующем месяце в Сараево, чтобы узнать на месте, чего следует добиваться у властей для улучшения условий французской транзитной торговли.
Три дня спустя визирь принял Давиля в зале заседаний на верхнем этаже.
Ступив в жаркий летний день в безмолвное и холодное нижнее помещение Конака, консул задрожал, словно попал в катакомбы. На втором этаже было немного светлее, но и там, по сравнению с блеском и жарой на улице, царили полумрак и прохлада. Одно окно было открыто, и листья густо разросшегося винограда заглядывали в комнату.
Визирь сидел на своем обычном месте без всяких видимых перемен, в парадном одеянии, склонившись на одну сторону, как древний памятник. Глядя на него, Давиль и сам старался сохранить свой обычный вид и мучительно подбирал слова, уместные в разговоре о несчастье, чтобы, не упоминая об умерших, в особенности о женщинах, сердечно и немногословно выразить свое искреннее сочувствие.
Визирь помог Давилю своей внутренней сдержанностью, вполне отвечавшей его внешней неподвижности.
Выслушав речь Давиля в переводе Давны без единого жеста и перемены в лице, визирь сразу, не тратя слов на покойных, перешел на судьбы и дела живых.
– Вот и чума нагрянула в Стамбул, да еще в такие кварталы, где на памяти людей она никогда не бывала, – произнес визирь низким, холодным голосом, исходящим как бы из каменных уст, – и чума не пожелала отстать. И она должна была напасть на нас за наши грехи. Значит, и я согрешил, если она не миновала и мой дом.
Визирь замолчал, а Давиль сразу предложил Давне, как врачу, объяснить, что таков уж характер этой болезни, что нередки случаи, когда до святости невинные люди и целые семейства погибали от случайно занесенной бациллы этой опасной болезни.
Визирь медленно повернул голову, словно только что заметил Давну. Посмотрел на него невидящим, окаменелым взглядом черных глаз и, сразу отвернувшись, обратился к консулу:
– Нет. За грехи, за грехи нам это. Народ в столице потерял и разум и честь, погряз в пороках. Все обезумели в погоне за роскошью. А в верхах ничего не предпринимают. И все потому, что нет больше султана Селима. Покуда он был жив и у власти, грех из столицы изгонялся, боролись с пьянством, беспутством и бездельем. А теперь…
Визирь опять остановился, неожиданно, как механизм, у которого кончился завод, а Давиль еще раз попытался сказать несколько утешительных и успокаивающих слов, объяснить, что между грехом и наказанием должно в конце концов наступить равновесие, чем будет положен конец греху и искуплениям.
– Бог един. Он знает меру, – сказал визирь, отклоняя всякое утешение.
В открытое окно доносилось щебетание невидимых птиц, от движения которых вздрагивали свесившиеся в комнату листья.
На крутом склоне, закрывавшем горизонт, виднелись поля спелой пшеницы, разделенные зелеными межами или живыми изгородями. Внезапно в тишине, наступившей после слов паши, откуда‑то с этого склона донеслось резкое ржание жеребенка.
Прием окончился воспоминаниями о султане Селиме, который погиб как святой и мученик. Визирь был тронут, хотя этого нельзя было заметить ни по его голосу, ни по выражению лица.
– Да пошлет вам бог всякой радости от ваших детей, – сказал он Давилю на прощание.
Давиль поспешил ответить, что после горя и визиря озарит радость.
– Что до меня, то я в жизни столько терял и потерял, что больше всего хотел бы, если б только это было можно, одеться в рубище и обрабатывать свой сад, вдали от людей и событий. Бог един!
Визирь проговорил эти слова словно давно обдуманную, готовую фразу, изобразил картину, очень близкую его настроению и имевшую для него особый, глубокий смысл, непонятный другим.
Лето 1812 года, так плохо начавшееся, и продолжалось плохо.
Во время последней войны против пятой коалиции, осенью 1810 года, Давилю было во многих отношениях легче. Во‑первых, хотя борьба с фон Миттерером, сотрудничество с Мармоном и комендантами на австрийской границе были, как мы видели, трудны и утомительны, все же они заполняли время и направляли мысли на реальные заботы и осязаемые цели. Во‑вторых, поход развивался успешно, от победы к победе, и, главное, быстро. Уже ранней осенью был заключен Венский мир и наступило хотя бы временное затишье. Теперь же все происходило вдалеке, было совершенно непонятно и пугало своей неясностью и гигантским размахом.
Всецело – мыслями и жизнью – зависеть от продвижения армии где‑то по русской равнине, ничего не знать о направлении, средствах и перспективах военных действий, но ожидать всего и предполагать все, даже и самое худшее, – вот чем жил Давиль, о чем размышлял, расхаживая по крутым дорожкам сада при консульстве, в эти летние и осенние месяцы. И ничего, что могло бы облегчить это ожидание, и никого поблизости, кто бы мог ему помочь!
Курьеры теперь приезжали чаще, но известий о ходе войны почти не привозили. Бюллетени, в которых упоминались незнакомые названия совсем неизвестных городов – Ковно, Вильно, Витебск, Смоленск, – не могли устранить ни ощущения неизвестности, ни страха. И сами курьеры, привозившие обычно множество всяких россказней и новостей, теперь были усталые, недовольные и молчаливые. Не было даже ложных слухов, не высказывалось догадок, которые могли бы хоть как‑то взволновать человека и рассеять сомнения и неизвестность.
Перевозка французского хлопка через Боснию была уже налажена, или так, по крайней мере, казалось по сравнению с заботами и страхами, вызываемыми ходом событий, развивавшихся где‑то далеко на севере. Правда, возчики повысили цены, население раскрадывало хлопок в пути, а из‑за плохо упорядоченных турецких пошлин требовались бесконечные взятки. Фрессине писал отчаянные письма, поддавшись болезни, от которой страдали все иностранцы в этих краях из‑за питания, невозможности иметь нормальные деловые отношения с местным населением, дурных бытовых условий. Давиль следил за хорошо ему известными симптомами болезни и посылал молодому человеку мудрые, сдержанные, казенные ответы, советуя проявлять терпение на службе империи.
И в то же время он сам с отчаянием оглядывался вокруг в поисках хоть какого‑нибудь явления, которое могло бы немного успокоить и подбодрить его, изнывающего от сомнений и постоянной, хотя и скрытой болезни. Но не находил ничего, за что можно было бы уцепиться и поддержать слабеющие силы. Как всегда в подобных случаях, как было в происшествии с молодым комендантом из Нови, Давиль чувствовал вокруг себя живую стену лиц и глаз, словно по уговору холодных и немых или загадочных, пустых и лживых. К кому обратиться, кого спросить, кто знает правду и захочет сказать ее?
Визирь всегда встречал его одним и тем же кратким вопросом:
– Где теперь ваш император?
Давиль отвечал, называя место, отмеченное в последнем бюллетене, а визирь легонько взмахивал рукой и шептал:
– Дай бог, чтобы он поскорее взял Петербург.
При этом он окидывал Давиля таким взглядом, что у консула холодело внутри и становилось еще тяжелее на душе.
И поведение австрийского консула было таково, что могло только еще больше растревожить Давиля.
Когда французская армия двинулась на Россию и стало известно, что Австрия в качестве союзника Наполеона участвует в походе с тридцатитысячным корпусом под командой князя Шварценберга, Давиль сейчас же посетил фон Паулича, желая вызвать его на разговор о перспективах великой войны, в которой, к счастью, австрийский и французский дворы действовали на сей раз совместно. Но наткнулся на молчаливую и ледяную вежливость. Подполковник был холоден и чужд более чем когда‑либо, вел себя так, словно ничего не знал ни о войне, ни о союзе, предоставив Давилю самому размышлять об этом, в одиночку радоваться успехам и опасаться неудач. А когда Давиль пытался извлечь из него хоть слово согласия или негодования, тот опускал свои красивые синие глаза, которые становились вдруг злыми и грозными.
После каждого посещения фон Паулича Давиль возвращался к себе еще более смятенным и подавленным. Впрочем, австрийский консул старался, очевидно, показать визирю и народу, что лично он ни словом, ни делом не участвует в этой войне и что все это исключительно французская затея. То же самое подтверждалось и наблюдениями Давны.
Возвращаясь полный таких впечатлений и сведений домой, Давиль находил жену по горло занятой заготовками к зиме. Наученная опытом прошлых лет, она теперь хорошо знала, какие овощи сохраняются лучше и дольше, какие сорта здешних фруктов наиболее пригодны для заготовок, каково влияние сырости, холодов и изменений погоды. Благодаря этому ее соления и маринады год от года становились лучше и вкуснее, кухня богаче и разнообразнее, а убытки и затраты меньше. Женщины работали под ее руководством и присмотром, но и сама она не сидела без дела.
Давиль прекрасно знал (тоже на основании долголетнего опыта), что нельзя отрывать ее от работы, да из этого и не получилось бы толку, потому что у нее никогда не было и не могло быть желания вести разговоры о вещах отвлеченных, вроде опасений и страхов, какие его лично никогда не покидали. Самая незначительная забота о детях, о доме или о нем самом была для нее гораздо важнее и представлялась куда более достойным предметом разговора, чем самые сложные внутренние переживания и настроения, которые одолевали консула и которыми он так хотел бы с кем‑нибудь поделиться. Он прекрасно знал, что его жена (верный и единственный его друг), как всегда, всецело поглощена данной минутой и начатым делом, будто ничего другого и не существует на свете и будто все, начиная от Наполеона и кончая женой консула в Травнике, ревностно, каждый на свой лад, приготовляют все необходимое к зиме. Для нее не могло быть сомнений, что воля божья проявляется ежеминутно повсюду и во всем. К чему же тогда разговоры?
Давиль сел в свое большое кресло, закрыл глаза рукой и с едва слышным вздохом (ах, боже милостивый, боже милостивый!) взял Делиля и открыл томик наугад, в середине какого‑то произведения. На самом деле он искал то, чего не мог найти ни в жизни, ни в книгах: сочувствующего и искреннего друга, готового все выслушать и умеющего все понять, с которым он мог бы откровенно поговорить и получить на все вопросы ясный и прямой ответ. В таком разговоре он, как в зеркале, впервые увидел бы свое истинное лицо, точно определил пользу своей деятельности и свое настоящее положение в мире. Тогда он смог бы, наконец, уяснить, что во всех его сомнениях, предвидениях и страхах является обоснованным и достоверным и что необоснованным и вымышленным. И это было бы просто счастьем в его одинокой жизни, которую он вот уже шестой год вел в этой печальной долине.
Но друг не приходил. Такой друг никогда не приходит. Вместо него появлялись странные и нежелательные гости.
И в первые годы, случалось, заезжал какой‑нибудь путешественник, француз или иностранец с французским паспортом, и останавливался в Травнике, прося или требуя помощи. В последнее время такие проезжие стали наведываться все чаще.
Заявлялись и путешественники, и подозрительные торговцы, и авантюристы, и мошенники, которые сами обманулись, сбившись с пути в этой бездорожной и убогой стране. Все они ехали или бежали, направляясь кто в Стамбул, кто на Мальту, кто в Палермо, и смотрели на свое пребывание в Травнике как на наказание и несчастье. Для Давиля каждый такой неожиданный и нежеланный гость означал одни заботы и волнения. Он отвык от сношений с соотечественниками и вообще людьми Запада. И, как все легко возбудимые люди, не вполне в себе уверенные, он с трудом отличал ложь от правды и постоянно колебался между необоснованными подозрениями и чрезмерным доверием. Напуганный циркулярами министерства, неустанно напоминавшими о необходимости внимательно следить за английскими агентами, необыкновенно хитрыми и умеющими маскироваться, Давиль в каждом из этих путешественников видел английского шпиона и предпринимал ненужные и бесполезные меры, чтобы разоблачить их или защититься от них. В действительности эти путники были чаще всего люди, выбитые из колеи, несчастные и растерявшиеся, с исковерканной судьбой, беженцы, потерпевшие крушение во взбудораженной Европе, которую Наполеон своими завоеваниями и своей политикой перепахал и перекопал во всех направлениях. И по ним Давиль мог иногда судить о том, что натворил «генерал» за последние четыре‑пять лет.
Давиль ненавидел всех этих проезжих еще и потому, что по их паническому стремлению как можно скорее уехать отсюда, по их возмущению беспорядками, безрукостью и необязательностью жителей, по отчаянной беспомощности в борьбе с местными условиями и обстоятельствами он особенно ясно видел, куда его закинула судьба и в каких краях проходят его лучшие годы.
Каждый такой непрошеный гость был мучением и обузой; казалось, что он сваливался ему на голову, чтобы опозорить перед всем Травником, и консул всеми доступными способами – деньгами, посулами, уговорами – старался выпроводить его из Боснии, чтобы только не видеть олицетворения собственной судьбы и, во всяком случае, избавиться от свидетеля своих неудач.
И раньше через Травник проезжали случайные путники, но никогда их не было так много, как в год похода на Россию, и никогда не было среди них так много странных, подозрительных и беспутных людей. К счастью, даже и при таких обстоятельствах Давну никогда не покидало ощущение реальной действительности, хладнокровное и дерзкое самообладание и бесцеремонность по отношению ко всем и каждому, помогавшие ему выходить из самых затруднительных положений.
Однажды в дождливый майский день какие‑то неизвестные проезжие остановились возле гостиницы. Вокруг них сразу столпились дети и бездельники с базара. Из‑под одеял и шалей вылезли трое, одетые по‑европейски. Маленький проворный мужчина, высокая, крупная женщина, набеленная и нарумяненная, с крашеными волосами, похожая на актрису, и девочка лет двенадцати. Все они устали и чувствовали себя разбитыми после трудной и дальней дороги, были голодны и злились друг на друга и на весь свет. Не предвиделось конца объяснениям с возчиками и хозяином гостиницы. Маленький мужчина, желтолицый брюнет, вертелся с живостью южанина, распоряжался, кричал на жену и дочку. Наконец сгрузили их сундуки и сложили у входа. Суетливый мужчина взял упитанную девочку под мышки, поднял и посадил на самый верхний сундук, приказав сидеть наподобие вывески. А сам отправился на розыски французского консульства.
Вернулся он с Давной, поглядывавшим на него искоса и свысока; маленький человечек объяснял, что зовут его Лоренцо Гамбини, родом он из Палермо, до сих пор жил в Румынии как торговец и теперь возвращается в Италию, так как больше не в силах выносить жизнь на Ближнем Востоке. Обманули его здесь, ограбили, загубили здоровье. Ему нужна виза, чтобы вернуться в Милан. Он узнал, что может получить ее здесь, в Травнике. У него имеется просроченный паспорт Цизальпинской республики. Сейчас же, без промедлений он желает ехать дальше, потому что теряет рассудок с каждым днем, проведенным среди этого народа, и не может ручаться ни за себя, ни за свои поступки, если будет вынужден задержаться здесь еще.
Не слушая его оживленной болтовни, Давна договорился с хозяином гостиницы, чтобы проезжим приготовили комнаты и еду. В разговор вмешалась и жена. У нее был слезливый, усталый голос актрисы, которая сознает, что стареет, и ни на одну минуту не может этого забыть или примириться с этим. Девочка, возвышавшаяся на сундуке, кричала, что она голодна. Все говорили разом. Они хотели получить комнаты, хотели утолить голод и отдохнуть, добиться визы, поскорее выехать из Травника и покинуть Боснию. И все же казалось, что им больше всего хотелось кричать и ссориться. Никто никого не слушал, никто никого не понимал.
Позабыв о хозяине гостиницы и повернувшись спиной к Давне, маленький итальянец кричал жене, которая была в два раза выше его:
– Ты‑то уж не вмешивайся, не смей мне ничего говорить. Будь проклят час, когда ты впервые заговорила и когда я тебя в первый раз услышал. Все из‑за тебя и произошло.
– Из‑за меня? Из‑за меня? Ах! – взвизгнула женщина, призывая в свидетели небо и всех присутствующих. – Ах, а моя молодость, мой талант, все, все, что я ему отдала?! Ах! А теперь: из‑за меня!
– Из‑за тебя, моя красотка, да, из‑за тебя, солнышко мое ясное!… Из‑за тебя я страдаю и порчу себе жизнь, и изза тебя я покончу с собой, не сходя с этого места.
И привычным жестом маленький человек вытащил из непомерно широкого дорожного плаща огромный пистолет и поднес его ко лбу. Женщина с визгом подбежала к мужу, который и не думал стрелять, и стала его обнимать и говорить ему ласковые слова.
Упитанная девочка, восседавшая на багаже, мирно жевала желтое албанское печенье, которым ее кто‑то угостил. Маленький человек уже позабыл и о жене, и о своей угрозе покончить с собой. Он со страстью объяснял Давне, который озадаченно почесывал за ухом, что завтра утром должен получить визу, размахивал потрепанным и заляпанным паспортом и одновременно ругал девочку за то, что она забралась на сундук и не помогает матери.
Уладив дело с хозяином и пообещав дать ответ завтра рано утром, Давна отправился в консульство, не обращая больше внимания на странное семейство и не отвечая на страстные мольбы и уверения итальянца.
Перед гостиницей осталась толпа любопытных, с удивлением и недоумением разглядывавшая чужестранцев, их одежду и чудные манеры, словно это был театр или цирк. Турки, сидевшие у своих лавок, и проходившие по делу люди глядели исподлобья и сразу отворачивались.
Не успел Давна вернуться, рассказать консулу, какие необыкновенные гости к ним пожаловали, и показать ему паспорт Гамбини фантастического происхождения, со множеством виз и рекомендаций, подшивок и вклеек, как послышался стук в ворота и крики. Лоренцо Гамбини явился собственной персоной и требовал, чтобы его пропустили переговорить с консулом с глазу на глаз. Телохранитель отогнал его от ворот. Детвора с базара следовала за ним издалека, радуясь, что всюду, где ни появлялся этот чужеземец, возникала суматоха, крики и волнующие сцены. Вышел Давна и резко прикрикнул на чрезмерно возбужденного человека, уверявшего, что имеет заслуги перед французами и скажет еще свое слово в Милане и в Париже. Наконец он послушался и вернулся в гостиницу, повторяя, что покончит с собой на пороге консульства, если завтра не получит паспорта.
Давиль был напуган, раздосадован и возмущен всем этим и приказал Давне разделаться с этой историей как можно скорее, чтобы не устраивать спектакль в городе и не дождаться чего‑то худшего. Давна, совершенно чуждый подобной осмотрительности и привыкший считать скандал неотъемлемой частью всякого дела на Востоке, сухо и деловито успокаивал консула:
– Этот никогда не покончит самоубийством. Увидит, что ничего от нас не получит, и уедет точно так же, как и приехал.
Так и случилось. На следующий же день все семейство покинуло Травник после громкой перепалки между Давной и Лоренцо, грозившим то немедленно застрелиться, то лично подать жалобу Наполеону на консульство в Травнике, а его рослая жена в это время бросала на Давну убийственные взгляды бывшей красавицы.
Давиль, вечно озабоченный репутацией своей родины и консульства, вздохнул с облегчением. Но через три недели в Травнике снова появился непрошеный гость.
В гостинице остановился некий турок, кричаще разодетый, который прибыл из Стамбула и сразу отправился на розыски Давны. Звали его Измаил Раиф, на самом деле это был принявший магометанство эльзасский еврей Мендельсхайм. Он тоже добивался беседы с консулом, уверяя, что располагает сведениями, важными для французских властей. Он похвалялся, что, имея широкие связи в Турции, Франции и Германии и состоя членом первой ложи вольных каменщиков во Франции, знает многие планы врагов Наполеона. Был он атлетического сложения, рыжий и краснорожий, держался нагло и очень много говорил. Глаза у него блестели, как у пьяного. Давна избавился от него, прибегнув к уловке, которой часто пользовался. Он серьезно посоветовал ему, не теряя ни минуты, ехать дальше и все свои сведения сообщить военному коменданту в Сплите, единственно уполномоченному разбираться в таких делах. Еврей упирался, негодуя на то, что французские консулы никогда не интересуются сведениями, за которые английские или австрийские ухватились бы обеими руками и заплатили бы чистым золотом, но все‑таки через несколько дней тронулся в путь.
Уже назавтра Давна узнал, что перед отъездом он побывал у фон Паулича и предложил свои услуги против Наполеона. Давна немедленно известил об этом коменданта в Сплите.
Не прошло и десяти дней, как Давиль получил обстоятельное письмо из Бугойна. Тот же самый Измаил Раиф извещал консула, что остановился в Бугойне и поступил на службу к Мустафа‑паше, сыну Сулейман‑паши. Писал он по приказанию Мустафы и просил от его имени прислать хотя бы две бутылки коньяку, кальвадоса или какогонибудь другого французского вина, «лишь бы покрепче».
Мустафа, старший сын Сулейман‑паши Скоплянина, был избалованный и распущенный юнец, склонный ко многим порокам, а больше всего – к пьянству. Он был совсем не похож на своего отца, хитрого и лицемерного, но храброго, неподкупного и трудолюбивого человека. Молодой сын паши вел праздный и расточительный образ жизни, надоедал своими приставаниями крестьянкам, пьянствовал с бездельниками и объезжал коней на Купресском поле. А старый Сулейман‑паша, строгий и требовательный к людям, был слаб и снисходителен к сыну, всегда находя оправдание его лени и дурным поступкам.
Давна сразу понял, что связывало этих двух людей. С одобрения консула, он сообщил непосредственно молодому сыну паши, что пошлет ему вино с ближайшей оказией, но советует не доверять этому Измаилу, проходимцу и, по всей вероятности, австрийскому шпиону.
Измаил Раиф ответил пространным письмом, в котором защищался и оправдывался, уверяя, что он не шпион, а честный француз и гражданин мира, несчастный человек, бродяга. Письмо, от которого несло купресской ракией, заканчивалось сумбурными стихами, в которых он оплакивал свою судьбу:
О ma vie! О vain songe! О rapide existence!
Qu' amusent les désirs, qu'abuse l'espérance.
Tel est donc des humains l'inévitable sort!
Des projets, des erreurs, la douleur et la mort![69]
Измаил заявлял о себе еще несколько раз, оправдываясь и объясняясь полупьяной прозой вперемежку со стихами и подписываясь своим прежним именем с добавлением мнимой масонской степени Cerf Mendelsheim, Chev *** d'or ***. Наконец и его выгнали из Боснии пьянство, бродяжничество и ход событий.
Но как только умолк этот пришелец, на смену ему, будто по уговору, прибыл другой французский путешественник, некий Пепен, небольшого роста, аккуратно одетый, надушенный и напудренный, с тонким голосом и быстрыми движениями. Он рассказал Давне, что приехал из Варшавы, где у него была школа танцев, а здесь задержался потому, что его в дороге обокрали, что он возвращается в Стамбул, где когда‑то жил и где у него какие‑то заимодавцы. (Как он попал в Травник, вовсе не находящийся на пути Варшава – Стамбул, он не объяснил.)
Этот малорослый человек обладал наглостью уличной девки. Остановив лошадь Давиля, когда тот ехал через базар, он церемонно попросил принять и выслушать его. Чтобы не вызывать публичного скандала, Давиль пообещал. Но, вернувшись домой, тут же призвал Давну и, дрожа от волнения и гнева, умолял освободить его от наглеца.
Консул, которому и во сне снились английские агенты, уверял, что у того английский акцент. Давна, лишенный фантазии и не обладавший способностью видеть то, чего нет, или преувеличивать то, что есть, сохраняя, по обыкновению, непоколебимое спокойствие, успел уже все разведать относительно этого путешественника.
– Прошу вас, обратите на него внимание, – говорил своему переводчику расстроенный консул. – Избавьте меня, пожалуйста, от него, это агент, посланный, очевидно, скомпрометировать консульство или что‑нибудь в этом роде. Это провокатор.
– Нет, – ответил сухо Давна.
– А кто же?
– Он педераст.
– Что такое?
– Педераст, господин генеральный консул. Давиль схватился за голову.
– О! Что только не обрушивается на наше консульство. Вот как?!! О! О!…
Давна успокоил своего начальника и на другой же день освободил Травник от присутствия господина Пенена. Не сказав никому ни слова, он загнал это чучело в угол комнаты, тряхнул как следует, схватил его за безукоризненное жабо и предложил немедленно убраться отсюда, заявив, что в противном случае его завтра изобьют посреди базара, а турецкие власти посадят в крепость. Учитель танцев принял это к сведению.
Давиль был счастлив, что избавился и от этого бродяги, но уже с тревогой думал, какие еще отбросы общества или потерпевшие крушение люди будут занесены темной и глупой игрой случая в эту долину, где и без них так тяжко живется.
А шестая осень, которую Давиль проводил в Травнике, быстро разворачивалась и, подобно драме, приближалась к своей кульминации.
К концу сентября пришли вести о взятии Москвы и о ее пожаре. Консула никто не пришел поздравить. Фон Паулич продолжал с наглым спокойствием утверждать, что не имеет никаких известий о военных действиях, и уклонялся от разговоров об этом. Давна установил, что и служащие фон Паулича ведут себя так же, беседуя с населением, и вообще делают вид, будто ничего не знают об участии Австрии в войне против России.
Давиль зачастил в Конак, старался подольше видеться с разными людьми в городе, но все, как один, избегали обсуждать поход против России, прятались за общие, ничего не значащие и ни к чему не обязывающие фразы и любезности. Давилю иногда казалось, что все смотрели на него со страхом и удивлением, как иа лунатика, двигающегося на страшной высоте, стараясь не разбудить его неосторожным словом.
Но тем не менее истина понемногу проступала наружу. Однажды в дождливый день визирь, принимая Давиля, спросил, по обыкновению, каковы вести из России, и, услышав сообщение о взятии Москвы, обрадовался, хотя уже знал об этом, поздравил консула, выразив пожелание, чтобы Наполеон продвигался вперед, как некогда справедливый завоеватель Кир.[70]
– Но почему ваш император теперь, накануне зимы, движется на север? Это опасно. Опасно. Мне бы хотелось видеть его немного южнее, – говорил Ибрагим‑паша, озабоченно глядя в окно, словно где‑то там видел эту опасную Россию.
Визирь проговорил это точно таким же тоном, как и свои добрые пожелания и сравнения с Киром, и Давна перевел, как переводил все, что ему говорили, сухо и сжато, но у Давиля захватило дух. «Вот то, что я предчувствовал, то, о чем все они думают и знают, но не хотят говорить», – размышлял Давиль, напряженно ожидая дальнейших слов визиря. Но Ибрагим‑паша умолк. («И он не хочет говорить», – подумал Давиль с горечью.) После долгого молчания визирь снова заговорил, но уже о другом. Он рассказал, как некогда Гисари Челеби‑хан двинулся походом на Россию, в нескольких схватках разбил войско противника, которое продолжало отступать все дальше и дальше на север. Тут победоносного хана настигла зима. Его доселе непобедимое войско пришло в замешательство, воины струсили, а дикие, косматые безбожники, привыкшие к холоду, стали нападать на них со всех сторон. Тогда‑то Гисари Челеби‑хан произнес известные слова:
Когда человека покидает солнце родного края,
Кто будет освещать ему обратный путь?
(Давиля всегда злила эта манера турок во время рассказа цитировать стихи как нечто особо важное и значительное, и он никогда не мог понять, в чем подлинный смысл цитируемых стихов и какова их связь с предметом разговора, но всегда чувствовал, что турки придают им важность и значение, которых он не в состоянии был ни почувствовать, ни разгадать.)
Молодой хан сильно разгневался на своих звездочетов, которых он специально возил с собой, за то, что они предсказали более позднее наступление зимы. Он приказал связать этих мудрецов, оказавшихся невеждами, гнать их впереди войска босыми, полуодетыми, чтобы они на себе испытали последствия своего обмана. Однако оказалось, что эти худосочные ученые, вялые и бескровные, подобно клопам, выдерживали холод лучше, чем войско. Они остались живы, тогда как у молодых, полнокровных солдат сердце разрывалось в груди, словно крепкая древесина бука на морозе. Говорят, что до железа нельзя было дотронуться – оно обжигало, как раскаленное, обдирая кожу с ладоней. Так пострадал Гисари Челеби‑хан, потеряв свои несметные полчища и едва сохранив свою голову.
Разговор закончился благословениями и наилучшими пожеланиями успеха Наполеону в его походе, москалям же, которые, как известно, плохие соседи, не любят мира и не держат данного слова, он пожелал поражения.
Конечно, рассказы о Кире и Гисари Челеби‑хане визирь почерпнул от Тахир‑бега. Это он помянул о них в Конаке, когда зашла речь о взятии Москвы и дальнейшем развитии наполеоновского похода в Россию. Давна, разузнававший обо всем, узнал и о том, как на самом деле расценивают в Конаке положение французской армии в России.
Тахир‑бег объяснил визирю и другим, что французы зашли слишком далеко и не смогут уже отступить без огромных потерь.
– А если наполеоновские солдаты задержатся там еще на какую‑нибудь неделю, – сказал тефтедар, – то я уже вижу их в виде холмиков, занесенных русским снегом.
Доверенное лицо в точности передало эти слова Давне, который бесстрастно повторил их Давилю.
«Все опасения в конце концов сбываются», – громко и спокойно произнес Давиль, проснувшись однажды зимним утром.
Декабрьское утро было необычайно холодным. Консул пробудился внезапно, ощутив собственные волосы на голове как прикосновение чьей‑то холодной руки. Открыв глаза, он проговорил эти слова как предостережение.
Эту же фразу он повторил про себя несколько дней спустя, когда вошедший Давна объявил, что в Конаке много говорят о поражении Наполеона в России и полном разгроме французской армии. В городе ходит по рукам последний русский бюллетень со всеми подробностями французского поражения. По‑видимому, русские бюллетени получает и распространяет австрийское консульство, разумеется, скрытно и через третьи руки. Во всяком случае, у Тахир‑бега такой бюллетень имеется, и он показал его визирю.
«Все сбывается…» – повторил про себя Давиль, слушая рассказ Давны. Под конец, взяв себя в руки, он приказал Давне отправиться под каким‑нибудь предлогом к Тахир‑бегу и во время беседы, между прочим, попросить у него этот русский бюллетень. Он вызвал второго переводчика, Рафо Атияса, и велел ему, как и Давне, опровергать в городе эти неблагоприятные известия и убеждать народ, что армия Наполеона непобедима, несмотря на временные трудности, обусловленные зимой и дальностью расстояния, а вовсе не какими‑то там русскими победами.
Давне удалось повидать Тахир‑бега. Он попросил дать ему бюллетень но тефтедар отказал:
– Если я тебе его дам, ты по долгу службы покажешь его господину Давилю, а я этого не хочу. Уж слишком тут неблагоприятные сведения для него и его страны, а я очень уважаю консула и не хочу, чтобы он получал такие известия от меня. Скажи ему, что мои добрые пожелания всегда ему сопутствуют.
Давна повторил все это Давилю со свойственной ему беспощадной и спокойной точностью и сразу вышел. Давиль остался один, обдумывая слова Тахир‑бега, полные той восточной любезности, от которой по спине пробегают мурашки.
Человека, с которым османские турки обходятся столь предупредительно, можно считать либо умершим, либо несчастнейшим из смертных. Так думал Давиль, прислонившись к окну и вглядываясь в ночной сумрак.
На узкой темно‑синей полоске неба над Виленицей незаметно появился молодой месяц, острый и холодный, как металлическая буква.
Нет, на этот раз дело не кончится, как бывало, триумфальным бюллетенем и победоносным мирным договором.
То, что давно предчувствовал Давиль, теперь встало перед ним как отчетливо осознанное в холодной чужеземной ночи под злым молодым месяцем и наводило на мысль о том, как мог отозваться полный разгром и окончательное поражение французской армии на нем и его семье. Он попытался сосредоточиться, но почувствовал, что для этого потребуется больше силы и смелости, чем было у него в тот вечер.
Да, на сей раз дело закончилось не как обычно – победоносным бюллетенем и мирным договором, по которому Франция приобретала новые территории и императорская армия пожинала новые лавры, а, наоборот, отступлением и разгромом. Во всем мире наступила тишина и молчаливое ожидание неминуемого и страшного развала. Так, по крайней мере, казалось Давилю.
Все эти месяцы консул был полностью лишен каких бы то ни было известий, почти отрезан от внешнего мира, с которым были связаны как его мысли и страхи, так и его личная судьба.
Травник и весь край были скованы лютой, долгой и необыкновенно суровой зимой, самой тяжелой из всех зим, которые Давилю пришлось здесь провести.
Говорили, что такая же зима была двадцать один год назад, но, как всегда бывает, нынешняя казалась и более лютой, и более тяжелой. Уже в ноябре зима парализовала жизнь, изменила лик земли и внешность людей. А потом она спустилась в Травницкую долину, сровняла все и установилась как смертоносное нашествие, без всякой надежды на перемену. Зима опустошила амбары и закрыла дороги. Птицы падали замертво, словно фантастические плоды с невидимых ветвей. Звери спускались с крутых склонов и прятались в городе. Страх перед стужей победил страх перед людьми. В глазах бедняков и бездомных отражался ужас перед смертью, от которой не было спасения. В поисках хлеба или теплого ночлега люди замерзали на дорогах. Больные умирали, так как от холода не было лекарства. В ледяной ночи слышно было, как от мороза с треском лопается доска на крыше консульства или как над Виленицей завывают волки.
Печи топились и ночью, потому что госпожа Давиль боялась за детей, всегда думая о сыне, которого она потеряла четыре года тому назад.
В такие ночи Давиль и его жена сидели вместе после ужина, она – борясь со сном и усталостью после дневных хлопот, а он – с бессонницей и бесконечными заботами. Ей хотелось спать, а ему говорить. Хрупкая, вся закутанная в шали, но легкая и подвижная, она по целым дням вела борьбу с холодом и людским горем, и потому ей были чужды всякие разговоры и размышления по этому поводу. Он же, напротив, находил в этом хотя бы минутное облегчение.
Однако она слушала его, хотя ей давно уже мучительно хотелось спать, и таким образом и по отношению к нему она выполняла свой долг, который целый день выполняла по отношению к другим.
А Давиль говорил обо всем, что приходило в голову в связи с бедствиями от холода, общими несчастьями и своими затаенными страхами.
Он рассказал, что видел и пережил много несчастий, постигающих человека в его борьбе со стихиями – как с теми, которые его окружают, так и с теми, которые живут в нем самом или рождаются при столкновениях с людьми. Он пережил голод и всевозможные лишения двадцать лет тому назад, во время террора в Париже. Тогда казалось, что насилие и беспорядки – единственное, что ожидает человечество в будущем. Засаленные и истрепанные ассигнации, тысячи и тысячи франков, не имели никакой цены, а за кусочком копченого сала или горстью муки приходилось тащиться по ночам в отдаленные предместья и там в мрачных подвалах договариваться и торговаться с подозрительными людьми. День и ночь люди метались в волнении, стараясь сохранить свою жизнь, которую, и вообще‑то невысоко оценивавшуюся, теперь можно было потерять в любую минуту по чьему‑нибудь доносу, вследствие ошибки полиции или просто по капризу судьбы.
Потом он стал вспоминать, как воевал в Испании. Неделями и месяцами не снимал он заплесневевшей на нем от пота и грязи рубашки, боясь выстирать ее: совсем истлевшая, она от малейшего прикосновения могла превратиться в лохмотья. Кроме ружья, штыка и небольшого запаса пороха и пуль, у него была единственная собственность – ранец из сыромятной кожи, который он снял с мертвого арагонского крестьянина, отправившегося во. имя божье убивать французских пришельцев и якобинцев. В этом ранце не водилось ничего, кроме куска черствого ячменного хлеба, взятого или украденного в покинутом доме, и то лишь в исключительно счастливые дни. Тогда тоже были лютые метели, против которых были бессильны и теплая одежда, и крепкая обувь. Впору было забыть обо всем на свете и думать только о крове и пристанище.
Все это он перенес в жизни, но никогда еще не видел и не испытал такого ужасного холода, во всей его безмолвно‑разрушительной силе. Он даже не представлял себе, что на Востоке возможны такие бедствия и нужда, полнейшая парализованность всего из‑за долгой и суровой зимы, поражающей, словно божья кара, эту гористую, скудную и несчастную землю. Это он узнал только здесь, в Травнике, и лишь этой зимой.
Госпожа Давиль не любила воспоминаний вообще и, как все деятельные и по‑настоящему верующие люди, избегала размышлений вслух, которые ни к чему не ведут, а вызывают лишь умиление самим собой, ослабляют восприятие окружающего и часто направляют мысли по неверному пути. До сих пор она слушала напряженно и доброжелательно, но тут поднялась, покоренная усталостью, и заявила, что пора спать.
Давиль остался в большой комнате, в которой становилось все холоднее. Он долго еще сидел один, лишившись собеседника, и «слушал», как холод проникал во все и разрывал нутро каждой вещи. И куда бы ни протянулась его мысль – думал ли он о Востоке и турках, об их беспорядочной и неустойчивой, а следовательно, бессмысленной и бесполезной жизни, старался ли понять, что происходит во Франции и что случилось с Наполеоном и его армией, потерпевшей поражение и возвращавшейся из России, – всюду он видел страдания, бедствия и жестокую неизвестность.
Так проходили дни и ночи этой зимы, которой, казалось, не предвиделось ни конца, ни облегчения.
Когда, случалось, мороз ослабевал на день‑два, валил тяжелый и обильный снег и, вновь покрывая сугробы, на которых уже образовался твердый наст, словно обновлял лик земли. И сразу затем мороз крепчал еще сильнее; дыхание леденело, вода замерзала, солнце меркло. Мысль человека цепенела, направленная лишь на защиту от холода. Требовалось большое усилие, чтобы представить себе, что где‑то подо льдом и снегом лежит земля‑кормилица, которая может цвести и давать плоды. Между этими плодами и человеком легла холодная, белая и непреодолимая стихия.
Уже в первые зимние месяцы цены на все резко повысились, в особенности на зерно; теперь его совсем не стало. В селах царил голод, в городе – тяжелая нужда. По улицам бродили исхудалые крестьяне – с беспокойным взглядом, с пустым мешком в руке – в поисках хлеба. Из‑за углов набрасывались нищие, посиневшие от холода, замотанные в тряпье. Соседи считали друг у друга каждый кусок.
Оба консульства старались помочь народу и облегчить страдания от голода и стужи. Госпожа Давиль и фон Паулич соревновались в оказании помощи продуктами и деньгами. Перед воротами консульств собирался голодный люд, главным образом дети. Сперва это были только цыганята и изредка христианские дети, но по мере того, как усиливался мороз, а вместе с ним и нужда, начала приходить с окраин и турецкая беднота. В первые дни голодных детей поджидали на базаре турчата из имущих домов, насмехались над ними за то, что они выпрашивают и едят хлеб неверных, бросали в них снегом и кричали:
– Голь голодная! Неверные! Наелись свинины? Голь голодная!
Но потом ударил такой мороз, что дети побогаче уже не выходили из домов. А перед консульствами щелкала зубами и подпрыгивала от мороза толпа озябших детей и нищих, настолько промерзших и закутанных во всевозможное тряпье, что нельзя было разобраться, ни откуда они, ни какой веры.
Консулы раздавали так много, что и сами начали ощущать недостаток в продуктах. Но как только мороз упал настолько, что возчики получили возможность добираться из Брода, фон Паулич умело и решительно наладил постоянный подвоз муки и продовольствия для своего консульства и для Давиля.
Еще в начале зимы транспортировка французского хлопка через Боснию была приостановлена. Фрессине продолжал слать отчаянные письма, собираясь все бросить. Наряду с этим и в народе утвердилось единодушное мнение, что французы, платившие высокие цены возчикам, вызвали не только дороговизну, но и нехватку продуктов тем, что отрывали народ от полевых работ. Вообще всему виной была «Бонапартина война». Как уже случалось столько раз в истории, народ из своего мучителя сделал искупительную жертву, на плечи которой взвалили все грехи и преступления. И все увеличивалось число тех, которые, сами не зная почему, стали ждать облегчения и спасения от поражения и провала «Бонапарты», хотя знали о нем только то, что он стал «бременем для страны», неся с собой войны, беспорядки, дороговизну, болезни и обнищание.
На противоположной стороне Савы, в австрийских землях, где народ стонал под гнетом налогов и финансовых кризисов, воинской повинности и кровавых жертв в боях, о Бонапарте уже слагались песни и рассказы, в которых он изображался виновником всего этого и помехой личному счастью каждого в отдельности. В Славонии заневестившиеся девушки пели:
О француз, всесильный император!
Отпусти парней, остались девушки;
Погнили кафтаны, и яблоки,
И рубашки, расшитые золотом.
Эта песня перекинулась через Саву в Боснию, достигла и Травника.
Давиль прекрасно знал, как возникают в этих краях подобные массовые мнения, распространяются, пускают корни и как тяжела и безрезультатна борьба с ними. Невзирая на это, он продолжал бороться, но уже с надломленной волей и подорванными силами. Он по‑прежнему писал донесения, давал указания служащим и помощникам, старался добывать как можно больше сведений, как можно сильнее воздействовать на визиря и на всех и каждого в Конаке. Все делалось как раньше, только сам Давиль был уже не тот.
Консул держался прямо, двигался спокойно и уверенно. Все на первый взгляд оставалось без перемен. И все же он сильно изменился внешне и внутренне.
Если б можно было измерить силу нашей воли, ход мысли, твердость наших внутренних порывов и их проявлений, то стало бы ясно, что ритм деятельности Давиля был теперь гораздо ближе к ритму, в котором дышал, жил и работал этот боснийский город, чем к тому, который был ему присущ, когда он более шести лет тому назад сюда приехал.
Эти изменения происходили постепенно и незаметно, но постоянно и непреложно. Давиль опасался написанных слов и быстрых, ясных решений, страшился новостей и посетителей, пугался перемен и даже самой мысли о них. Он предпочитал надежную минуту спокойствия и отдыха грядущим годам, полным неизвестности.
Да и внешних перемен нельзя было скрыть. Людям, живущим в таком тесном общении, всегда на глазах друг у друга, труднее заметить, как они стареют и меняются. И все же видно было, что консул постарел, в особенности за несколько последних месяцев.
Волна буйных волос на лбу поредела, снизилась и посерела, как бывает у белокурых людей, когда они начинают быстро седеть. На лице его еще сохранялся румянец, но кожа стала сохнуть, терять свою свежесть и обвисать вокруг подбородка. После жестокой зубной боли, мучившей его этой зимой, он стал терять зубы.
Таковы были видимые следы, которые за этот год оставили на Давиле травницкие морозы, дожди и сырые ветры, мелкие и крупные семейные заботы и бесчисленные консульские обязанности, а в особенности внутренняя борьба в связи с последними событиями во Франции и во всем мире.
Таков был Давиль в конце шестого года своего безвыездного пребывания в Травнике, в канун событий, происшедших по возвращении Наполеона из России.
XXIV
Когда в первые дни марта мороз стал наконец ослабевать и лед, казавшийся вечным, начал таять, город выглядел заглохшим и испуганным, словно после мора, – размытые улицы, обветшалые дома, голые деревья и люди, изнуренные и озабоченные больше, чем в стужу, из‑за недостатка пищи, семян, из‑за невылазных долгов и займов.
В такой вот мартовский день – опять утром и опять тем же низким и противным голосом, каким Давна годами непреклонно и одинаково объявлял о приятных и неприятных вещах, о важных или незначительных событиях, – он доложил Давилю, что Ибрагим‑паша смещен, причем даже не получил нового назначения. Приказ гласил, что он должен покинуть Травник и в Галлиполи ожидать дальнейших распоряжений.
Когда пять лет тому назад ему точно так же объявили о переводе Мехмед‑паши, Давиль был взволнован и чувствовал потребность действовать, говорить, как‑то бороться против такого решения. И теперь, в нынешние времена, известие это было для него тяжким ударом и непоправимой утратой. Но он больше не находил в себе сил для возмущения и сопротивления. Еще с прошлой зимы, после московской катастрофы, в нем окончательно утвердилось ощущение, что все рушится и разваливается и что всякая потеря, чем бы она ни была вызвана, обретает в этом ощущении свой смысл и свое оправдание.
Все гибнет – цари, армии, установленный порядок, состояния и неуемные восторги, а потому не удивительно, что настал день, когда пал и этот оцепеневший, несчастный визирь, уже многие годы сидевший постоянно склонившись то влево, то вправо. Известно, что означала фраза: «ожидать в Галлиполи дальнейших распоряжений». Это было изгнание, томительное полунищенское существование, без слова жалобы и без возможности что‑либо объяснить и исправить.
Только потом Давилю пришло в голову, что он теряет многолетнего друга и верную поддержку, и это тогда, когда она была особенно нужной. Но он не находил в себе того горения и ревностной потребности писать, предупреждать, угрожать и призывать на помощь, как в свое время при отъезде Мехмед‑паши. Все гибнет, даже друзья, эта полезная опора. А тот, кто волнуется, стараясь спасти себя и других, ничего не достигает. Значит, как все остальное, обречен на гибель и вечно склоненный визирь, покидающий Травник. Оставалось только сожалеть.
Пока консул так раздумывал, не приходя ни к какому решению, из Конака сообщили, что визирь приглашает его для беседы.
В Конаке чувствовалась возбужденная суета, но визирь оставался тем же. Он говорил о своем смещении как о чемто вполне естественном в ряду несчастий, годами его преследовавших. Словно желая, чтобы этот ряд несчастий завершился как можно скорее, визирь решил не откладывать отъезда и двинуться в путь дней через десять, то есть в начале апреля. Было известно, что преемник его уже выехал, и Ибрагим‑паша ни в коем случае не желал встретиться с ним в Травнике.
Визирь, как и раньше Мехмед‑паша, уверял, что он жертва своих симпатий к Франции. (Давнль прекрасно знал, что это была одна из тех восточных полуправд, которые встречаются среди искренних отношений и услуг, как фальшивые деньги среди настоящих.)
– Да, да, пока Франция процветала и побеждала, и меня держали, не смели тронуть, а теперь, когда счастье повернулось к Франции спиной, меня сменяют и отстраняют от общения и сотрудничества с французами.
(Фальшивые деньги вдруг обернулись настоящими, и Давиль, забывая о неточности предпосылки визиря, реально ощутил французское поражение. Та холодная и мучительная спазма, которая то сильнее, то слабее столько раз сводила ему нутро в Конаке, появилась и сейчас, когда он спокойно слушал речь визиря, полную фальшивой любезности и горькой истины.)
Ложь перемешана с правдой, подумал Давиль, предоставляя Давне переводить слова, которые и сам хорошо понимал, все так перемешано, что никто уже не может как следует в этом разобраться, ясно только одно: все рушится.
А визирь уже перевел разговор с Франции на свои отношения к боснийцам и лично к Давилю.
– Уверяю вас, этому народу нужен более строгий и свирепый визирь. Правда, мне говорят, что бедняки во всем крае благословляют меня. А я только этого и желаю. Богатые и сильные меня ненавидят. И о вас меня вначале неправильно осведомили, но я быстро распознал, что вы мой настоящий друг. Слава богу единому! Поверьте, я и сам не раз просил султана отозвать меня. Мне ничего не нужно и больше всего хотелось бы стать простым садовником, обрабатывать свой сад и в покое провести остаток дней своих.
Давиль проговорил успокоительные слова и пожелания лучшего будущего, но визирь отклонил всякое утешение.
– Нет, нет! Я вижу, что меня ожидает. Знаю, что меня постараются оклеветать и погубить, как уже столько раз пытались, чтобы завладеть моим имуществом. Я просто чувствую, как где‑то в верхах под меня подкапываются, но что поделаешь. Бог един! А после того, как я потерял самых любимых детей и столько родни, я готов к любому новому горю. Будь жив султан Селим, все было бы поиному…
Давилю был хорошо знаком строй дальнейшего разговора. И Давна переводил наизусть, как текст хорошо заученного обряда.
Покидая Конак, Давиль заметил, что беспокойство и суета увеличивались с каждой минутой. Разнообразное и сложное хозяйство визиря, разросшееся за эти пять лет, пустившее корни и ставшее частью дворца и его окружения, теперь вдруг зашаталось, готовое рухнуть.
Из всех закутков и дворов доносились голоса, топот, стук и грохот молотков, сбрасываемых ящиков и корзин. Каждый хотел обеспечить себя и спастись. Эта большая, далеко не дружная, но тесно связанная семья, отправляясь в полнейшую неизвестность, скрипела и трещала по всем швам. Единственный, кто во всей этой суматохе оставался хладнокровным и застывшим, был визирь. Он сидел на своем месте, слегка отклонившись в сторону, и был недвижим, как разукрашенный каменный идол среди растревоженной и напуганной челяди.
Уже на другой день слуги пригнали во французское консульство целую вереницу домашних или прирученных животных: ангорских кошек, борзых, лисиц и зайцев. Давиль торжественно встретил и принял их во дворе. Сопровождавший зверей ичоглан стал посреди двора и громогласно объявил, что эти божьи твари были друзьями дома визиря, и теперь визирь дарит их дому своего друга.
– Он их любил и может оставить только тому, кого любит.
Ичоглан и слуги получили подарки, животных же поместили во дворе за домом, к большому неудовольствию госпожи Давиль и к неописуемой радости детей.
Через несколько дней визирь еще раз пригласил Давили, чтобы проститься с ним наедине, неофициально и поприятельски.
На сей раз визирь был действительно растроган. Не было уже фальшивых монет – ни полуправд, ни двусмысленных любезностей.
– Со всем человек расстается, теперь наступило и наше время. Мы встретились как два изгнанника, заброшенные сюда и заточенные среди этого страшного народа. Мы сделались друзьями и всегда останемся таковыми, если нам доведется снова встретиться где‑нибудь в лучшем месте.
И тут произошло событие, небывалое в церемониале Конака за все пять лет. Ичогланы подбежали к визирю и помогли ему встать. Он поднялся быстро и резко, и только теперь стало видно, как он высок и крепок, затем медленно и тяжело, без единого жеста проследовал на невидимых под тяжелым и длинным плащом ногах, словно на колесиках, через всю комнату. Все вышли за ним во двор. Здесь стояла вычищенная и приведенная в порядок черная карета, давний подарок фон Миттерера, а чуть поодаль от нее – красивый, чистых кровей, рыжий конь с бело‑розовыми ноздрями, в полной сбруе.
Визирь остановился перед экипажем и, прошептав нечто вроде молитвы, повернулся к Давилю:
– Покидая эту печальную страну, я оставляю вам это средство передвижения, чтобы и вы покинули ее как можно скорее… – Затем подвели коня, и визирь снова повернулся к Давилю: – …и это благородное животное, чтобы оно несло вас навстречу счастью.
Давиль, тронутый, хотел что‑то сказать, но визирь продолжал:
– Экипаж – знак мира, а конь – символ счастья. Таковы мои пожелания вам и вашей семье.
Тут только Давилю удалось высказать свою благодарность и выразить визирю пожелания счастливого пути и всяких благ в будущем.
Еще раньше, в Конаке, Давна узнал, что визирь ничего не подарил фон Пауличу и простился с ним коротко и холодно.
Перед Конаком лагерем стояли караваны; возчики укладывали и перекладывали кладь, перекликались, поджидая один другого. Из опустелого дома доносились шаги, слышались распоряжения и препирательство. Всех заглушал своим писклявым голосом Баки.
Он был несчастен и чувствовал себя больным от одной мысли, что надо ехать в такой холод (в горах еще лежал снег) по ужасным дорогам, а расходы, убытки и потери, связанные с отъездом, приводили его в отчаяние. Он перебегал из комнаты в комнату, оглядывал, не осталось ли чего‑нибудь, заклинал, чтоб вещи не кидали и не ломали, грозил, умолял. Он сердился на Бехджета за постоянную улыбку, с которой тот следил за всей этой суматохой. («С таким умишком в голове и я, конечно, смеялся бы».) Обижался на Тахир‑бега за беззаботность и легкомыслие. («Этот сам себя погубил, так почему бы ему не губить и все остальное!») Подарки, предназначенные визирем для Давиля, взволновали его настолько, что он позабыл и корзины возчиков. Он бегал от одного к другому, доходил до визиря, настойчиво умоляя не дарить хотя бы коня. А не добившись ничего, сел на голую тахту и, всхлипывая, принялся рассказывать во всеуслышание, что в свое время Ротта сообщил ему по секрету, как совершенно достоверный факт, что, покидая Травник, фон Миттерер увез с собой пятьдесят тысяч талеров, сбереженных за неполные четыре года службы.
– Пятьдесят тысяч талеров! Пять‑де‑сят ты‑сяч! Этот боров немецкий! И за четыре года! – кричал Баки. – Сколько же тогда накопил француз? – громко спрашивал он всех в бессильной ярости, шлепая себя ладонью по шелковому кафтану в том месте, где положено быть бедру.
В конце недели под холодным дождем, который в горах превращался в мокрый снег, Ибрагим‑паша двинулся в путь со своей свитой.
Провожали его оба консула с телохранителями. Часть пути за ними следовали и многие из травницких бегов, на конях и пешком: Ибрагим‑паша уезжал не тайком, сопровождаемый общей ненавистью, как некогда Мехмед‑паша. В первые два года айяны восставали и плели интриги и против него, как против большинства его предшественников, но со временем это случалось все реже и реже. Вследствие исключительной сдержанности визиря и аккуратности в денежных делах, благодаря отзывчивости, сметливости и спокойствию Тахир‑бега между Конаком и бегами установились постепенно спокойные, хотя и холодные отношения. Беги, правда, упрекали визиря за бездеятельность и внутри страны, и в военных операциях против Сербии, но делали это больше для того, чтобы успокоить собственную совесть и подчеркнуть свое усердие, а не потому, что всерьез хотели нарушить бесплодную, но приятную тишину, установившуюся за время долгого правления Ибрагим‑паши. (К тому же визирь, со своей стороны, и вполне основательно, за являл, что не может двинуть войско против Сербии только из‑за медлительности, беспорядка и разногласий между боснийцами.) И чем больше визирь становился похожим на покойника, тем мягче судили о нем самом и тем благожелательнее отзывались о его правлении.
Процессия, провожавшая визиря, мало‑помалу редела и таяла. Сперва отстали пешие, потом некоторые из всадников. Под конец остались только улемы, несколько айянов и оба консула со своими свитами. Консулы простились с визирем возле той самой маленькой кофейни, где когда‑то Давиль прощался с Мехмед‑пашой.
Перед кофейней все еще стояла покосившаяся беседка – в луже воды, почерневшая от дождей. Тут визирь остановил процессию и простился с консулами, невнятно сказав несколько слов, которых никто не перевел. Давна громко повторил пожелания и приветствия своего начальника, а фон Паулич сам ответил по‑турецки.
Моросил холодный дождь. Визирь ехал верхом на своем сильном, спокойном и широкозадом коне, которого в Конаке прозвали коровой. На нем был тяжелый плащ из темнокрасного сукна на меху, который ярким пятном выделялся на фоне печального и мокрого города. Позади визиря виднелось желтое с блестящими глазами лицо Тахир‑бега, вытянутое лицо Эшреф‑эфенди, лицо охотника, и круглый ворох одежды, из которого выглядывали голубые, сердитые и плаксивые глаза Баки.
Всем хотелось как можно скорее покинуть это сырое ущелье, как покидают официальные похороны.
Давиль возвращался вместе с фон Пауличем. Было уже за полдень. Дождь прекратился, и откуда‑то проскользнул косой луч солнца, бледный и несогревающий. В беспредметный разговор врывались мысли и воспоминания. Чем ближе подъезжали к городу, тем теснее становилось ущелье. По крутым склонам пробивалась молодая травка с синеватым отливом от дождя. В одном месте Давиль заметил несколько полураспустившихся желтых баранчиков и вдруг с такой остротой ощутил всю печаль своей седьмой боснийской весны, что едва нашел в себе силы вежливыми, односложными фразами отвечать на спокойные высказывания фон Паулича.
Дней через десять после отъезда визиря Давиль, к своему удивлению, уже получил от него первые вести. В НовиПазаре Ибрагим‑паша встретился с Силиктаром Али‑пашой, своим преемником[71] на посту визиря Боснии, и тут они задержались на несколько дней. В это же время прибыл французский курьер из Стамбула, и Ибрагим‑паша послал с ним своему другу первые приветствия с пути. Письмо было полно дружеских чувств и добрых пожеланий. Как бы мимоходом Ибрагим‑паша обронил несколько слов и о новом визире. «Мне хотелось бы, почтеннейший друг, описать вам своего преемника, но это совершенно невозможно. Скажу только: „Да смилуется господь бог над бедняками и всеми беззащитными. Теперь боснийцы увидят…“
То, что Давиль узнал от курьера, а затем из писем Фрессине, вполне совпадало с впечатлениями Ибрагимпаши.
Новый визирь ехал без штата чиновников, без ичогланов и гарема, зато в сопровождении тысячи двухсот хорошо вооруженных албанцев «устрашающего вида» и двух больших полевых пушек, предшествуемый славой невменяемого кровопийцы и самого свирепого визиря в империи.
На пути между Плевлей и Прибоем, где дороги труднопроходимы, особенно в это время года, одна из пушек визиря застряла в грязи. А когда прибыли в Прибой, визирь зарубил в наказание за это всех чиновников без разбора (к счастью, их было всего‑навсего трое) и двух самых видных торговцев. Вперед отправил гонца со строгим приказом исправить и привести в порядок дороги. Но приказ оказался излишним. Грозный пример Прибоя возымел свое действие. На всем пути от Прибоя до Сараева закопошились батраки и мастера, засыпая лужи и ямы, исправляя деревянные мосты. Страх выровнял дорогу визирю.
Али‑паша ехал медленно и подолгу задерживался в каждом городе, сразу вводя свои порядки, облагал налогами, резал непокорных турок, сажал в тюрьму видных людей и всех евреев подряд.
Как явствовало из подробного и красочного донесения Фрессине, в Сараеве страх был настолько велик, что самые видные беги и торговцы вышли из города к Козьему мосту, чтобы там приветствовать визиря и поднести ему первые дары. Но Али‑паша, знавший прославленную привычку сараевских бегов холодно и неприветливо встречать визирей, ехавших из Стамбула в Травник, наотрез отказался принять эту депутацию, громко крича из своего шатра, чтобы они немедленно убирались, а тех, кто ему понадобится, он сумеет найти и дома.
На другой день в Сараеве арестовали всех богатых евреев и нескольких влиятельных бегов. Одного из них, решившегося лишь спросить, за что его арестовали, связали и избили в присутствии визиря.
Об этом узнали в Травнике, и в разговорах между людьми новый визирь рисовался подлинным чудовищем. Но его въезд в Травник и его обращение с айянами при встрече и на первом диване превзошли все ходившие о нем слухи.
В тот весенний день первым вступил в Травник трехсотенный отряд албанцев визиря. Они шли широкими, правильными рядами, все одного роста, красивые, как девушки. Вооруженные короткоствольными ружьями, они ступали мелким шагом, глядя прямо перед собой. Затем ехал визирь в сопровождении небольшой свиты и отряда конницы. И они тоже двигались каким‑то похоронным шагом без всякого шума и возгласов. Во главе процессии, перед лошадью визиря, шел богатырь, держа обеими руками большой обнаженный меч. Ни самые разнузданные башибузуки, ни орда бешеных черкесов с криками и пальбой не произвели бы такого ужасающего впечатления на народ, как эта безмолвная и медленно продвигавшаяся процессия.
Действуя по принципу: «С человеком, который провел одну ночь в тюрьме, можно разговаривать иначе», – Алипаша, по своему обыкновению, в тот же вечер заточил в тюрьму евреев и видных людей. А родственников и друзей, которые плакали, выражали сожаление, хотели чтонибудь передать или чем‑то помочь, избили. По имевшимся у визиря спискам были посажены все евреи‑домовладельцы, ибо, по мнению Али‑паши, никто не платил столько за свое освобождение, как евреи, и никто, кроме них, не умел так широко распространить потом страх по городу. И жителям Травника, все запоминавшим, довелось в числе прочих чудовищных и позорных вещей увидеть, как, скованных одной цепью, провели семерых Атиясов.
В ту же ночь были связаны и брошены в крепость долацкий священник Иво Янкович, настоятель монастыря в Гуча‑Горе, и иеромонах Пахомий.
На другой день рано утром из крепости вывели всех посаженных раньше за убийства или крупные кражи и ожидавших приговора Ибрагим‑паши, который не торопился, действуя осмотрительно. Все они на восходе солнца были повешены на городских перекрестках, а в полдень айяны собрались в Конаке на первый диван.
Зал этот помнил много бурных и страшных заседаний, слышал много жестоких слов, важных решений и смертных приговоров, но никогда он не был свидетелем такой тишины, от которой захватывало дух и замирало сердце. Искусство Али‑паши в том и состояло, что он умел создавать, поддерживать и распространять атмосферу такого страха, который побеждал и скручивал людей, не боявшихся самой смерти.
После оглашения фирмана султана первое, что визирь сообщил собравшимся айянам, был смертный приговор травницкому каймакаму Ресим‑бегу. Удары Али‑паши были особенно страшны именно потому, что были неожиданны и ошеломляющи.
Когда три недели тому назад Ибрагим‑паша покинул Травник, Сулейман‑паша Скоплянин был с войском где‑то на Дрине и под благовидным предлогом отказался вернуться и заменить визиря до приезда нового. А потому в качестве верховного правителя в Травнике оставался старый Ресим‑бег, каймакам.
Он посажен, сказал визирь, и в пятницу будет казнен за то, что в отсутствие визиря вел дела беспорядочно и так небрежно, что дважды заслужил смерть. Это только начало; за каймакамом последуют все, кто, приняв на себя государственные дела и заботы, не исполняет их как полагается или же явно или тайно ими пренебрегает.
При этом уведомлении слуги стали разносить кофе, чубуки и шербет.
После кофе Хамди‑бег Тескереджич, старейший из бегов, произнес несколько слов в защиту несчастного каймакама. Он еще говорил, когда один из слуг, обслужив визиря, стал, пятясь, удаляться к двери направо. Тут он, слегка задев другого слугу, вышиб у него из рук трубку. Визирь, словно он только того и ожидал, сверкнул глазами, нагнулся, затем выпрямился во весь рост и бросил в оцепеневшего слугу большой кинжал, который держал где‑то под рукой. Засуетившиеся слуги вывели несчастного, обливавшегося кровью, а беги и айяны совсем окаменели, уткнувшись каждый в свою чашку, позабыв о чубуках, дымившихся рядом.
Только Хамди‑бег сохранил спокойствие и присутствие духа настолько, что закончил свою речь в защиту старого каймакама, умоляя визиря принять во внимание его старость и прежние заслуги и не вменять ему в вину теперешние ошибки и промахи.
Громким, ясным голосом визирь резко и отрывисто заявил, что при его правлении каждый получит то, чего заслуживает: старательные и покорные – награды и признания, а негодные и непокорные – смерть или плети.
– Я приехал сюда не для того, чтобы фальшивить и любезничать сквозь табачный дым или спать на этой подушке, – заключил визирь, – но для того, чтобы навести порядок в стране, которая до самого Стамбула прославилась тем, что гордится своим беспорядком. И для самой крепкой головы найдется сабля. Головы – на ваших плечах, сабля – в моей руке, а фирман султана – у меня под подушкой. А потому пусть каждый, кто хочет есть хлеб и наслаждаться солнцем, держит и ведет себя как следует. Запомните это и растолкуйте народу так, чтобы мы могли вместе взяться за дело и выполнить то, чего требует от нас султан.
Беги и айяны поднялись и безмолвно простились, счастливые, что остались в живых, и растерянные, словно присутствовали на каком‑то дьявольском представлении.
Уже на другой день визирь торжественно принял Давиля.
За Давилем приехали албанцы визиря в парадной одежде, на хороших лошадях. Кавалькада проследовала через пустынные улицы и словно вымерший базар. Нигде не открылась ни одна дверь, не поднялось ни одно окно, не высунулась ни одна голова.
Прием прошел согласно церемониалу. Визирь одарил консула и Давну ценными мехами. Бросалась в глаза пустота в помещении Конака: в комнатах и коридорах не было ни мебели, ни украшений. Мало было чиновников и прислуги. После толкотни, царившей во времена Ибрагима‑паши, все выглядело теперь голым и пустынным.
Взволнованный и полный любопытства, Давиль был поражен, увидев нового визиря. Был он высок и крепок, но в кости тонок, движения его были быстры, без того медлительного достоинства, которое отличает всех видных турок. Лицо у него было смуглое, загорелое, глаза – большие, зеленые, а борода и усы совсем белые и как‑то странно подстриженные.
Визирь выражался легко и свободно, смеялся часто и для турецкого сановника необычно громко.
Давиль спрашивал себя, неужели это тот самый человек, о котором он слышал столько ужасного и который только вчера приговорил к смерти старого каймакама и ударил кинжалом слугу в этом самом зале?
Визирь смеялся, рассказывал о своих планах по наведению порядка в стране, о серьезном и энергичном наступлении на Сербию. Он ободрял консула, советуя вести дела попрежнему, и твердил о своем желании оказывать ему всяческое внимание и поддержку.
Давиль, со своей стороны, не скупился на любезности и уверения, но сразу заметил, что запас красивых слов и приятных гримас у визиря весьма скуден, и достаточно было ему на минутку прекратить смех и разговор, как лицо его становилось мрачным и жестким, а в глазах зажигался беспокойный огонек, будто он искал место, куда нанести удар. Холодное сверкание глаз трудно было выдержать, и оно странно противоречило его громкому смеху.
– Вы уже, конечно, слышали от боснийских бегов обо мне и моей системе управления. Пусть это вас не беспокоит. Я верю, что неприятен им. Но я приехал вовсе не для того, чтобы им нравиться. Эти болваны хотят жить в праздном барстве, прикрываясь дерзкими и громкими словами.
Так не пойдет. Пора и им одуматься. Но люди вразумляются не через голову, а с обратной стороны, через пятки. Никогда еще не бывало, чтобы человек, которому как следует всыпали по пяткам, забыл об этом, но я сто раз замечал, как у людей вылетают из головы самые хорошие советы и наставления.
Визирь громко рассмеялся, а вокруг рта, подстриженных усов и бороды заиграла молодая и озорная усмешка.
– Пусть говорят что хотят, – продолжал визирь, – но уверяю вас, что я сумею вбить в башки этим людям повиновение и порядок. А вы ни на что не обращайте внимания и, если вам что‑нибудь понадобится, приходите прямо ко мне. Я хочу, чтобы вы были спокойны и довольны.
Давилю впервые пришлось оказаться лицом к лицу с одним из тех совершенно неграмотных, неотесанных и кровожадных османских правителей, о которых он до сих пор знал только по книгам и рассказам.
Наступили времена, когда каждый старался стать маленьким и незаметным, искал убежища и укрытия, и на базаре говорили, что «теперь и мышиная норка стоит тысячу дукатов». Страх окутал Травник, подобно туману, придавил все, что дышит и думает.
Это был тот великий ужас, невидимый и неизмеримый, но всеобъемлющий, который время от времени обрушивается на человеческое общество и от которого никнут или слетают головы. Многие люди, ослепленные и обезумевшие, забывают, что существует разум и смелость, что все в жизни преходяще и что, хотя жизнь, как и все на свете, имеет свою ценность, но ценность эта не безгранична. Под магическим влиянием минутного страха люди платят за жизнь гораздо дороже, чем она стоит, творят подлые и гнусные дела, унижаются и позорят себя, а когда проходит минутный страх, они понимают, что купили свою жизнь слишком дорогой ценой, или даже видят, что им ничего не угрожало и они просто обманулись под влиянием неодолимого страха.
Софа у Лутвиной кофейни пустовала, хотя весна вступила в свои права и липа над ней зазеленела. Единственно, на что решились травницкие беги, это униженно молить визиря простить каймакаму его ошибки (хотя никто не знал какие) и, принимая во внимание его старость и прежние заслуги, Даровать ему жизнь.
Всех остальных заключенных в крепости – шулеров, конокрадов и поджигателей – судили коротким судом и казнили, а головы их насадили на колья.
Австрийский консул сразу начал хлопотать об арестованных монахах. Давилю не хотелось отставать от него. Только, кроме монахов, он упомянул и об евреях. Сперва освободили монахов. Потом одного за другим выпустили евреев, которые сразу обложили себя налогом и сдали в Конак выкуп, опустошив свои денежные ящики до последнего гроша, то есть до последнего гроша, предназначенного на взятки. Дольше всех в крепости просидел иеромонах Пахомий, о котором никто не хлопотал. Наконец и он был выкуплен малочисленными и бедными членами общины за круглую сумму в три тысячи грошей, из которых свыше двух тысяч внесли братья Петар и Йован Фуфичи. Что касается бегов, травницких и из других мест, то одних выпускали, других сажали, так что в крепости всегда содержалось десять – пятнадцать человек.
Так Али‑паша начал свое правление в Травнике, спешно снаряжая войско против Сербии.
XXV
Бедствия, постигшие Травник с приездом нового визиря, которые тяготили весь город, а каждому, на кого они непосредственно обрушивались, казались огромными, как вселенная, были, конечно, одинаково погребены как в горных теснинах, окружавших и сжимавших город, так и в донесениях травницких консулов, которые в те дни никто не удосуживался внимательно прочитать ни в Вене, ни в Париже. Весь мир в то время жил известиями о европейской драме разгрома Наполеона.
Рождество и Новый год Давиль провел в растерянном ожидании, с паническим ощущением, что все погибло. Но как толвко стало известно, что Наполеон возвратился в Париж, дела приняли более благоприятный оборот. Из Парижа стали поступать утешительные разъяснения, приказы и распоряжения, вести об образовании новых армий и решительных мерах правительства во всех областях.
Давиль еще раз устыдился своего малодушия. Но это же малодушие заставляло его вновь предаваться необоснованным надеждам. Так сильна в слабом человеке необходимость обманывать себя и столь не ограничены возможности быть обманутым!
Мучительные, сводящие с ума качели, на которых Давиль незримо качался уже годами, снова начали раскачиваться от смелых надежд до полного отчаяния. Только с каждым взлетом надежда становилась чуточку слабее и меньше.
В конце мая поступили известия о победах Наполеона при Люцене и Бауцене.[72] Старая игра продолжалась.
Но в Травнике в это время царила такая нужда, подавленность и страх перед новым визирем и его албанцами, что не с кем было поделиться победными известиями.
Али‑паша в это время, добившись от всех без различия «страха и повиновения», двинулся на Сербию. И в данном случае он поступил иначе, чем его предшественники. Раньше «посещения Сербии» носили торжественный характер. Днями и неделями к Травницкому полю стекались уездные начальники из внутренних районов Боснии. Собирались медленно, по собственному усмотрению, и приводили с собой такое войско, какое хотели, и столько, сколько вздумается. А прибыв в Травник, застревали тут, вели переговоры с визирем и властями, выражали свои пожелания, ставили условия, требовали продовольствия, снаряжения и денег. И все прикрывалось пышными манифестациями и военными парадами.
По Травнику тогда целыми днями шатались какие‑то подозрительные праздные люди в полном вооружении. На Травнццком поле развертывалась на недели пестрая и шумная ярмарка. Жгли костры, разбивали палатки. Посредине поля было воткнуто копье с тремя конскими хвостами, опрысканными кровью баранов, заколотых в качестве жертв во имя удачного завершения похода. Гремели барабаны, и пели трубы. Читались молитвы. Одним словом, делалось все, чтобы оттянуть выступление. И часто центр тяжести всей затеи был именно в сборах и сопровождавших их празднествах, а солдаты в большинстве так и не видали поля боя.
На этот раз, под руководством Али‑паши, все совершалось в строгой тишине и великом страхе, без особых торжеств, но и без промедлений и колебаний. Продовольствия нигде не было. Питались скудными запасами из амбаров визиря. Никто не помышлял ни о песнях, ни о музыке. Когда визирь лично выехал на поле, его палач казнил на Варошлуке цазинского начальника за то, что тот привел с собой на девять человек меньше, чем обещал. И тут же назначил нового командира из того же перепуганного отряда.
Так на сей раз двинулись на Сербию, где Сулейманпаша уже ждал со своим отрядом.
Вершить дела в Травнике опять остался старый Ресимбег, каймакам, которого Али‑паша, не успев прибыть, осудил на смерть и жизнь которому с трудом спасли беги. Страх, испытанный тогда каймакамом, служил визирю верной порукой, что на этот раз старик будет управлять в строгом соответствии с его желаниями и намерениями.
Какой смысл, думал теперь Давиль, сообщать несчастному старцу о победах Наполеона? И кому вообще стоило сообщать о них?
Визирь уехал с войском и своими албанцами, но оставил за собой страх, леденящий, устойчивый и прочный, как самая прочная стена, и мысль о его возвращении была страшнее любой угрозы и любого наказания.
Город оставался заглохшим и безмолвным, опустелым, обедневшим и голодным, каким не бывал последние двадцать лет. Дни были уже солнечные, долгие; люди стали спать меньше, а потому чаще чувствовали голод, чем в короткие зимние дни. По улицам слонялись исхудалые, золотушные дети в поисках какой‑нибудь сносной еды. Люди отправлялись даже в Посавину за хлебом или хотя бы за зерном.
Базарный день ничем не отличался от обычного. Многие лавки совсем не открывались. А где открывались – торговцы сидели мрачные и подавленные. Уже с осени не было кофе и других заморских товаров. Исчезло продовольствие. Имелись только покупатели, желавшие купить то, чего не было. Новый визирь обложил базар такими налогами, что многие принуждены были занимать, чтобы заплатить. А страх был так велик, что даже у себя дома, в четырех стенах, никто не смел жаловаться.
По домам и лавкам велись разговоры о том, что на Бонапарту напали шесть христианских императоров, поставив под ружье решительно всех мужчин, и теперь некому будет ни пахать, ни копать, ни сеять, ни жать, пока не победят и не уничтожат Бонапарту.
Теперь уже и евреи стали избегать французское консульство. Фрессине, начавший постепенную ликвидацию французского агентства в Сараеве, извещал, что тамошние евреи разом предъявили свои векселя и всякие другие иски и он не в состоянии их удовлетворить. Из Парижа не отвечали ни на один вопрос. Третий месяц не присылали ни жалованья, ни средств на расходы консульства.
И в это самое время, когда в Травнике сменился визирь, а в Европе разыгрывались знаменательные события, в небольшом консульском мирке все продолжало идти своим чередом: рождались новые существа, хирели и погибали старые.
Госпожа Давиль была на последних месяцах беременности, которую переносила легко и незаметно, как и два года назад. Целые дни она проводила в саду с работницами. При содействии фон Паулича ей удалось и в этом году получить из Австрии нужные семена, и она многого ожидала от своих посевов, только вот роды приходились как раз на то время, когда ее присутствие в саду было особенно необходимо.
В конце мая у Давиля родился пятый ребенок, мальчик. Он был слабенький, и потому его сразу крестили и записали в книгу крещеных в долацком приходе под именем August‑Franзois‑Gйrard.
Событие это вызвало такое же отношение, как и в прошлый раз: разговоры и искренние симпатии всего женского населения Травника, посещения, расспросы и добрые пожелания со всех сторон и даже подношения, несмотря на нужду и бедность. Не было только подарка из Конака, так как визирь уже выступил с войском на Дрину.
Все изменилось за эти два года – и взаимоотношения в мире, и условия жизни в стране, но представления о семейной жизни остались прежними, и все, что относилось к ней, связывало людей крепко и неизменно, как святыня, имеющая всеобщее непреходящее значение, не зависящее от неожиданных перемен и событий. Ибо в среде, подобной этой, жизнь каждого сосредоточена в семье, как в самой совершенной форме замкнутого круга. Но у этих кругов, хотя и строго отграниченных, имеется где‑то невидимый общий центр, который частично принимает на себя их бремя. В силу этого к тому, что случается в отдельной семье, никто не может остаться совершенно равнодушным, и во всех семейных событиях, как‑то: роды, свадьбы, похороны, – все принимают самое живое, деятельное и искреннее участие.
В это же приблизительно время бывший переводчик австрийского консульства Никола Ротта вступил в последнюю, безумную и отчаянную схватку со своей судьбой.
В семье фон Миттерера много лет служила старая кухарка, мадьярка, едва двигавшаяся из‑за толщины и ревматических болей в ногах. Повариха она была отличная и давно привязалась к семье полковника, но в то же время невыносимо тиранила всех домочадцев. Анна Мария целых пятнадцать лет то ссорилась с ней, то мирилась. Так как за последние годы старуха очень отяжелела, в помощь ей взяли молодую женщину из Долаца. Звали ее Луцией, была она сильной, трудолюбивой и подвижной. Луция сумела так приспособиться к причудам старой кухарки, что научилась от нее всему. И когда семейство фон Миттерера покинуло Травник, взяв, разумеется, с собой своего домашнего дракона, как прозвала Анна Мария старую повариху, Луция осталась кухаркой у фон Паули ча.
У Луции была сестра Анджа, несчастье семьи и позор долацкой общины. Еще девушкой она пошла по дурному пути, церковь предала ее анафеме, и ее выгнали из Долаца. Теперь она содержала кабачок в Калибунаре, у самой дороги. Луция, как и вся ее семья, много страдала из‑за сестры, которую очень любила и с которой, несмотря ни на что, никогда не порывала. Время от времени она виделась с ней тайком, хотя от этих свиданий страдала еще больше, чем от тоски по сестре, так как Анджа упорно оставалась при своем, а Луция после тщетных уговоров каждый раз оплакивала ее, как покойницу. Тем не менее они продолжали видеться.
Бродя по Травнику и его окрестностям, Ротта, по виду важный и занятый, а на самом деле праздный и распущенный, часто заходил в кабачок Анджи в Калибунаре. Через некоторое время он сошелся с этой распутной женщиной, которая, будучи выброшенной, как и он сам, из своей среды, начала преждевременно стареть и предаваться пьянству.
Как‑то перед пасхой Анджа нашла способ увидеться с Луцией. В разговоре она прямо и грубо предложила сестре отравить австрийского консула. Яд она принесла с собой.
Такой план мог созреть лишь ночью в кабачке с дурной славой у двух больных и несчастных существ, под влиянием ракии, невежества, ненависти и безумия. Находясь полностью под влиянием Ротты, Анджа ручалась сестре, что от этого яда консул будет постепенно и незаметно слабеть и умрет как бы своей смертью. Обещала ей щедрую награду и барскую жизнь возле Ротты, с которым она обвенчается и который после смерти консула снова займет какое‑то важное место. Упоминала и о наличных деньгах, в дукатах. Словом, все они смогут счастливо и беззаботно прожить целую жизнь.
Услыхав предложение сестры, Луция обмерла от страха и стыда. Она выхватила у нее из рук белые бутылочки и проворно засунула их в карманы своих шаровар, потом взяла несчастную женщину за плечи и стала ее трясти, словно желая пробудить от дурного сна, заклиная ее именем покойной матери и всем, что есть святого, опомниться и выбросить из головы подобные мысли. Желая убедить и пристыдить ее, она стала говорить о доброте консула и какой это грех и ужас так отплатить ему за его доброту, советовала сестре порвать всякие отношения с Роттой.
Пораженная столь сильным отпором и негодованием, Анджа сделала вид, что отказывается от своего замысла, и попросила сестру вернуть ей бутылочки. Но Луция и слышать не хотела. Так они и расстались. Луция сокрушенная и заплаканная, а Анджа молчаливая, красная, с выражением затаенного коварства на лице. Луция мучилась, не зная, что предпринять, и всю ночь не сомкнула глаз. А едва рассвело, она, никем не замеченная, отправилась в Долац, рассказала обо всем священнику Иво Янковичу и отдала ему бутылочки с ядом, умоляя сделать все, что он найдет нужным, лишь бы избежать несчастья и греха.
Не теряя ни минуты, священник в то же утро посетил фон Паулича, уведомил его обо всем и вручил яд. Подполковник немедля написал Давилю письмо, сообщая, что опекаемый им Ротта покушался на его жизнь. Имеются тому доказательства и свидетели. Проходимцу не удалось и не удастся выполнить свой план, но он, фон Паулич, предоставляет Давилю самому судить, может ли он и дальше держать такого человека под защитой французского консульства. Подобное письмо он послал и каймакаму. Проделав все это, фон Паулич спокойно продолжал прежний образ жизни, не меняя ни прислуги, ни поварихи. Зато все остальные сильно встревожились – и каймакам, и монахи, и в особенности Давиль. По его указанию Давна предложил Ротте на выбор: или немедленно бежать из Травника, или, потеряв защиту французского консульства, быть арестованным турецкими властями на основании доказанной попытки отравления.
В ту же ночь Ротта исчез из Травника вместе с Анджой из кабачка в Калибунаре. Давна помог ему бежать в Сплит. Но Давиль известил одновременно французские власти в Сплите о последних подвигах Ротты и рекомендовал не принимать этого опасного и невменяемого человека ни на какую службу, выслать куда‑нибудь подальше на Восток и предоставить собственной судьбе.
XXVI
Летние месяцы принесли на этот раз хотя бы некоторое облегчение и умиротворение. Созрели фрукты, ранняя пшеница, и люди, утолив голод, немного успокоились. Но слухи о военных действиях, о неминуемом разгроме Наполеона, с которым сведут счеты еще до наступления осени, не прекращались. Особенно старательно распространяли их монахи. И делали это столь же ревностно, сколь и скрытно, так что Давилю никак не удавалось ни уличить их, ни укротить, как следовало бы.
В самом начале сентября фон Паулич в сопровождении более многочисленной, чем обычно, свиты посетил своего французского коллегу.
В течении всего лета, когда из уст в уста передавались тревожные слухи и самые невероятные вести, неблагоприятные для французов, фон Паулич оставался спокойным и неизменно ровным в своем обращении с людьми. Каждую неделю он посылал госпоже Давиль цветы или овощи из тех семян, которые они выписывали вместе. При редких встречах с Давилем он говорил, что не верит в мировую войну и, по его мнению, нет никаких признаков, что Австрия нарушит нейтралитет. Цитировал Овидия и Вергилия. Объясняя причины голода и нужды в Травнике, говорил о способах, с помощью которых их можно было бы устранить, и в свойственной ему манере высказывал все это так, словно война происходила на другой планете, а голод царил на другом конце света.
И вот в один из мирных сентябрьских дней, ровно в полдень, фон Паулич сидел напротив Давиля в его кабинете на первом этаже, более торжественный, чем обычно, но такой же спокойный и холодный.
Он заявил, что приехал по поводу участившихся слухов о предстоящей войне между Австрией и Францией, распространяемых среди местного населения. Насколько ему известно, слухи эти неосновательны, и он хочет заверить в этом Давиля. Но, кстати, пользуясь случаем, он желал бы сказать, как он представляет себе их взаимоотношения в случае, если бы дело действительно дошло до войны.
И, глядя на свои сложенные белые руки, подполковник спокойно изложил свою точку зрения.
– Во всем, что не касается политики и войны, наши взаимоотношения, по‑моему, должны остаться прежними. Во всяком случае, как честные люди и европейцы, заброшенные в эту страну по долгу службы и принужденные жить в столь исключительных обстоятельствах, мы, я полагаю, не должны состязаться в клевете друг на друга перед лицом этих варваров, как это, быть может, случалось в прошлом. Я считаю своим долгом сказать вам об этом в связи с травницкими слухами, для которых, верю, нет никаких оснований, и узнать ваше мнение по этому поводу.
У Давиля захватило дух.
По тревожному настроению французских властей в Далмации в последние дни он понимал, что нужно к чемуто готовиться, но, не имея других сведений, не хотел показывать этого фон Пауличу.
Взяв себя в руки, он осипшим от волнения голосом поблагодарил фон Паулича, добавив, что вполне согласен с его мнением, что» оно совпадает с его собственными взглядами и что не его вина, если когда‑то в прошлом, с предшественником фон Паулича, дело обстояло иначе. Давиль захотел сделать еще один шаг.
– Я надеюсь, дорогой консул, что война не произойдет, а если это неизбежно, то она будет вестись без ненависти и скоро кончится. Я верю, что нежные и возвышенные родственные связи двух наших дворов и в данном случае смягчат остроту и ускорят примирение.
Тут фон Паулич, до сих пор смотревший прямо перед собой, вдруг опустил глаза, и лицо его стало строгим и замкнутым. На этом они и расстались.
Неделю спустя прибыли специальные курьеры – австрийский из Брода, а потом французский из Сплита, и консулы почти одновременно получили извещение, что война объявлена. Уже на другой день Давиль получил письмо от фон Паулича, в котором тот извещал его, что их страны находятся в состоянии войны, и письменно подтвердил свое предварительное мнение насчет их взаимоотношений во время войны. В конце письма он просил от его имени заверить госпожу Давиль в неизменном уважении и выражал готовность оказывать ей всевозможные услуги частного характера.
Давиль ответил сразу и повторил, что он лично и его служащие будут держаться так, как условились консулы, потому что «все без различия граждане западных государств здесь, на Востоке, составляют одну семью, какие бы разногласия ни существовали между ними в Европе». Он прибавил, что госпожа Давиль благодарит за память и сожалеет, что на некоторое время будет лишена общества подполковника.
Так осенью 1813 года – последнего из «консульских лет» – консульства оказались в состоянии войны.
Крутые дорожки в большом саду французского консульства были усыпаны желтыми листьями, которые сухими шуршащими потоками спускались к цветнику. На этих крутых дорожках, под склоненными ветвями фруктовых деревьев было тепло и покойно, как бывает только в дни, когда во всей природе наступает короткое затишье – чудесная передышка между летом и осенью.
Здесь, в уединении, глядя на заслоняющий горизонт близлежащий холм, Давиль подводил итоги своих восторгов, планов и убеждений.
Здесь, в последние дни октября, он услышал от Давны об исходе битвы под Лейпцигом.[73] Здесь узнал он от проезжих курьеров о поражении французов в Испании. В этом саду он проводил целые дни, пока совсем не похолодало и студеный дождь не превратил желтые и шуршащие листья в скользкую грязь.
Однажды в воскресное утро 1 ноября 1813 года с травницкой крепости раздались пушечные выстрелы и разорвали мертвую влажную тишину между крутыми и голыми склонами. Жители Травника, подняв головы, считали выстрелы, глядя друг на друга немыми вопрошающими взглядами. Прогремел двадцать один выстрел. Белые дымки над крепостью рассеялись, воцарилась тишина, которая вскоре снова была нарушена.
Посреди базара кричал глашатай, зобастый, охрипший Хамза, все больше терявший голос и дерзкое насмешливое остроумие. Он надрывался изо всех сил, стараясь жестами помочь изменившему голосу.
Так, борясь с душившей его одышкой, он объявил, что бог благословил мусульманское оружие большой и справедливой победой над восставшими неверными, что Белград взят турками и последние следы восстания в Сербии стерты навсегда.[74]
Весть быстро распространилась по всему городу из конца в конец.
В тот же день, после полудня, Давна отправился в город разузнать, какое впечатление произвели все эти вести на жителей.
Беги и торговцы не были бы тем, чем они были, – травницкими господами, – если бы искренне и во всеуслышание выразили радость по поводу чего бы то ни было, будь то даже победа собственного оружия. Сдержанно и с важным видом они мусолили какое‑то односложное и незначительное слово, не считая нужным даже громко его выговорить. На самом‑то деле на душе у них было нелегко. Ибо насколько приятно было, что Сербия смирится, настолько же страшно, что, вернувшись победителем, Али‑паша станет, по всей вероятности, обходиться с ними еще круче и суровее, чем до сих пор. Да и то сказать, за долгую жизнь они слышали много глашатаев, возвещавших о многих победах, но никто не помнил, чтобы жизнь от этого становилась лучше.
Вот что сумел узнать Давна, хотя никто даже взглядом не соблаговолил ответить ему на его неуместное любопытство.
Побывал он и в Долаце, желая услышать мнение монахов. Но священник Иво отговорился делами в церкви и, небывало затянув службу, не отходил от алтаря до тех пор, пока Давна, устав ждать, не вернулся в Травник.
Давна посетил и иеромонаха Пахомия на дому и нашел его лежащим пластом в пустой и холодной комнате, одетого, с позеленевшим лицом. Не расспрашивая о сегодняшней новости, Давна предложил ему свои услуги как врач, но иеромонах отказался принять лекарство, уверяя, что здоров и ни в чем не нуждается.
На другой день и Давиль и фон Паулич нанесли официальный визит чехайе и поздравили его с победой, но постарались не встретиться друг с другом ни в Конаке, ни по пути.
С первым большим снегопадом вернулся Али‑паша. При въезде его в город с крепости палили пушки, трубили трубы, дети выбегали ему навстречу. Развязались языки и у травницких бегов. Большинство из них прославляли победу и победителя в умеренных и полных достоинства словах, но публично и громко.
В тот же день Давиль послал в Конак Давну передать добрые пожелания и вручить подарок визирю‑победителю.
Десять лет тому назад, проживая в Неаполе в качестве поверенного в делах при Мальтийском ордене, Давиль купил тяжелый золотой перстень красивой чеканки с тонко выгравированным лавровым венком на том месте, где полагается быть камню. Давиль купил его при распродаже имущества умершего мальтийского рыцаря, оставившего много долгов и не имевшего наследников. По рассказам, этот перстень служил когда‑то наградой победителю в рыцарских турнирах членов Мальтийского ордена.
(В последнее время, с тех пор как дела неукоснительно шли к развязке, а сам он потерял внутреннее равновесие и пребывал в мучительной неизвестности о судьбах своей родины, своей семьи и самого себя, Давиль легче и чаще делал подарки, находя необычное и ранее неизведанное удовольствие дарить свои любимые вещи, которые до тех пор ревниво берег. Раздавая ценные и дорогие ему предметы, казавшиеся неотъемлемой частью его жизни, он бессознательно старался подкупить судьбу, теперь совсем отвернувшуюся от него и его семьи, ощущая в то же время искреннюю и глубокую радость, точно такую же, какую он испытывал когда‑то, покупая эти вещи для себя.)
Давну не допустили к визирю, и он отдал подарок тефтедару, объяснив, что эта драгоценность в течение столетий вручалась первому в единоборстве и что консул посылает ее теперь счастливому победителю вместе с поздравлениями и добрыми пожеланиями.
Тефтедаром у Али‑паши был некий Асим‑эфенди, по прозвищу Айва. Это был бледный, худой человек, вернее тень человека, заика, с разными глазами. Он всегда казался сильно напуганным и тем самым заранее нагонял страх на посетителей.
Спустя два дня визирь принял консулов, причем сначала австрийского, а потом французского. Времена первенства Франции прошли.
Али‑паша выглядел усталым, но довольным. При свете снежного зимнего дня Давиль впервые заметил какую‑то странную игру зрачков у визиря, бегавших вниз и вверх. Как только взгляд его останавливался и успокаивался, сразу же начинали дрожать зрачки. По‑видимому, это было известно и неприятно визирю, и потому он постоянно моргал, что придавало его лицу отталкивающее, затравленное выражение.
Али‑паша, надевший по случаю приема перстень на средний палец правой руки, поблагодарил за подарок и поздравления. О походе на Сербию и своих успехах он говорил мало и с ложной скромностью тщеславных и чувствительных людей, которые молчат, считая все слова несовершенными и недостаточно выразительными, и этим молчанием подчеркивают свое превосходство над собеседником, преподнося свой успех как нечто неописуемое и недоступное пониманию простых смертных. Такой победитель и много лет спустя изумляет каждого, кто с ним заговорит о его победе.
Разговор шел натянуто и неискренне. Ежеминутно наступали паузы, во время которых Давиль выискивал новые, более сильные слова для выражения похвал Алипаше; визирь не мешал ему измышлять их, а сам окидывал комнату беспокойным, скучающим взглядом с молчаливым убеждением, что консулу никогда не подобрать точных и достойных определений.
И, как всегда бывает в подобных случаях, Давиль, желая проявить живейшее участие и искреннюю радость, нечаянно задел самолюбие визиря‑победителя.
– Известно ли, где сейчас находится предводитель повстанцев, Черный Георгий? – спросил Давиль, он слышал, что Карагеоргий перебежал в Австрию.[75]
– Кто его знает и кого это интересует, где он скитается, – презрительно ответил визирь.
– А нет ли опасности, что какое‑нибудь государство окажет ему гостеприимство и поддержку, после чего он снова вернется в Сербию?
У визиря гневно дрогнули мускулы в уголках рта, и лишь потом губы сложились в улыбку.
– Не вернется. Да и некуда. Сербия настолько опустошена, что еще много лет ни ему, ни кому‑либо другому не придет в голову поднимать восстание.
Еще меньше посчастливилось Давилю, когда он попытался перевести разговор на положение во Франции и на военные планы союзников, подготовлявших в то время переправу через Рейн.
На возвратном пути в Травник визирь принял специального курьера, посланного фон Пауличем ему навстречу в Бусовачу и передавшего вместе с поздравлениями австрийского консула подробное письменное донесение о положении на европейских фронтах. Фон Паулич писал визирю, что «бог покарал наконец французов за их неслыханную наглость и что совместные усилия народов Европы принесли свои плоды». Он описал во всех подробностях битву при Лейпциге, поражение Наполеона и его отход за Рейн, неудержимое продвижение союзников и их приготовления к переправе через Рейн и к победоносному завершению войны. Он привел точную цифру французских потерь убитыми, ранеными и оружием, так же как и всех армий покоренных народов, изменивших Наполеону.
Прибыв в Травник, Али‑паша получил известия из других источников, подтвердившие все, о чем писал ему фон Паулич. Потому он так и разговаривал теперь с Давилем, ни разу не упомянув ни о Наполеоне, ни о Франции, словно он говорил с представителем безыменной страны, витающей в воздухе, не имеющей ни реальной формы, ни места в пространстве, словно он осмотрительно и с суеверным страхом остерегался даже в мыслях затронуть тех, на кого обрушилась судьба и которые давно уже находились в лагере побежденных.
Давиль еще раз бросил взгляд на свой перстень на руке визиря и простился с той натянутой улыбкой, которая появлялась на его лице все чаще по мере того, как его положение становилось все тяжелее и неопределеннее.
Когда они выезжали из Конака, в крытом дворе было уже темно, но за воротами сверкал мягкий, сырой снег, плотно устилавший крыши и мостовые. Было четыре часа пополудни. На снегу лежали синеватые тени. Как всегда в эти короткие зимние дни, печальные сумерки рано спускались в горное ущелье, из‑под глубокого снега слышался шум воды. Отовсюду несло сыростью. Копыта лошадей глухо стучали по деревянному мосту.
Покидая Конак, Давиль, как обычно, почувствовал мгновенное облегчение и на какую‑то минуту забыл, кто победитель и кто побежденный, и думал только о том, как бы и на этот раз проехать по городу спокойно и с достоинством.
От волнения и после духоты в жарко натопленном зале Конака его стало знобить от вечерней сырости. Он едва сдерживал дрожь. Это напомнило ему тот февральский день, когда он впервые проезжал через базар на первую аудиенцию у Хусрефа Мехмед‑паши, сопровождаемый бранью, плевками или презрительным молчанием фанатичных жителей. И вдруг ему показалось, что с тех пор, как себя помнит, он только и делает, что ездит верхом по этой дороге, с той же свитой и с теми же мыслями.
За семь лет своего пребывания здесь он по необходимости привык постепенно ко многим тяжелым и неприятным вещам, но в Конак всегда ездил с одинаковым чувством страха и беспокойства. И даже в наиболее счастливые времена и при самых благоприятных обстоятельствах он при малейшей возможности избегал посещать Конак, стараясь устраивать дела через Давну. А когда случалась крайняя и неотложная необходимость лично посетить визиря, он готовился к этому, как к тяжелому походу, и еще накануне плохо ел и спал. Он повторял про себя, что и как скажет, предугадывал ответы и уловки и заранее чувствовал усталость. Чтобы хоть немного отдохнуть, успокоиться и утешить себя, он, лежа в постели, думал: «Ах, завтра в это время я буду опять на этом месте, и два тяжелых и неприятных часа останутся позади».
Уже с утра начиналась мучительная церемония. Во дворе и перед консульством раздавался конский топот, суетливо бегали слуги. Потом в положенный час появлялся Давна с загорелым и таким мрачным лицом, которое обескуражило бы и ангела небесного, не то что простого смертного. Приход Давны означал, что мучения начались.
Видя, как сбегаются дети и зеваки, в городе догадывались, что один из консулов едет в Конак. И вот на повороте, в конце главной улицы, показывалась процессия Давиля, всегда в одном и том же порядке. Впереди ехал всадник визиря, каждый раз сопровождавший консула туда и обратно. За ним следовал Давиль на своем вороном коне, полный спокойствия и достоинства, а в двух шагах позади и чуть левее ехал Давна на своей пугливой пегой арабской кобыле, которую травницкие турки ненавидели так же, как и самого Давну. Позади всех на добрых боснийских лошадках ехали два консульских телохранителя, вооруженные пистолетами и кинжалами.
Необходимо было держаться на лошади прямо, не смотреть ни налево, ни направо, не слишком задирать голову, но и не утыкаться в конскую гриву, не выглядеть ни рассеянным, ни озабоченным, не улыбаться и не хмуриться, а быть серьезным, внимательным и спокойным. Приблизительно такой, не совсем естественный взгляд бывает у полководцев на картинах, когда они вперяют взор вдаль, поверх поля битвы, куда‑то между дорогой и линией горизонта, откуда должна появиться верная и точно рассчитанная помощь.
Давиль и сам не помнил, сколько сот раз он проделывал таким образом этот путь, но хорошо знал, что всегда, во всякую погоду и при любом визире, он был при этом так угнетен, словно шел на казнь. Случалось, этот путь снился ему, и во сне он переживал те же муки, следуя верхом с призрачной свитой сквозь строй угроз и засад по дороге в Конак, казавшийся недосягаемым.
И, вспоминая обо всем этом, он ехал верхом через сумрачный, занесенный снегом базар.
Большая часть лавок была уже заперта. Редкие прохожие шли по глубокому снегу согнувшись, медленно, словно волочили кандалы, засунув руки за пояс и повязав уши платком.
Когда они прибыли в консульство, Давна, попросив Давиля уделить ему несколько минут, сообщил новости, почерпнутые у приближенных визиря.
Один путник привез из Стамбула вести об Ибрагиме Халими‑паше.
После двухмесячного пребывания в Галлиполи бывший визирь был сослан в малоазиатский городишко, а перед этим у него конфисковали все имущество в Стамбуле и его окрестностях. Свита его постепенно растаяла, каждый пустился на поиски своей судьбы и куска хлеба. Ибрагимпаша отправился в изгнание почти один. И по дороге в далекое захолустье, где земля голая, выгоревшая и каменистая, где на крутых скалах нет ни травинки, ни капли проточной воды, он непрестанно возвращался к своей всегдашней мысли о том, как, отрекшись от мира, одевшись в простую одежду садовника, он в тишине и одиночестве будет обрабатывать свой сад.
За несколько дней до отъезда Ибрагим‑паши в изгнание скоропостижно умер – как говорят, от удара – Тахир‑бег, бывший тефтедар визиря. Для Ибрагим‑паши это было тяжелой утратой, от которой он лечился только старческим забвением, доживая свои последние дни в каменистой и безводной глуши.
Давиль отпустил Давну и остался один в снежных сумерках. Из долины поднимались волны тумана. Глубокий рыхлый снег заглушал звук. Вдали виднелась гробница Абдулах‑паши, занесенная снегом. Сквозь окно едва мерцал слабый огонек восковой свечи, горевшей над гробом.
Консул вздрогнул. Он почувствовал слабость и озноб. Внутри у него все кипело.
И как часто бывает с чрезмерно озабоченными и переутомленными людьми, Давиль забыл на минуту о том, что слышал и пережил в этот день, обо всех затруднениях и неприятностях, ожидавших его завтра и в будущем. Он думал только о том, что видел непосредственно перед собой.
Думал о восьмиугольной гробнице, мимо которой проходил в течении многих лет, о пламени свечи, в туманный вечер едва видимом, которое они с Дефоссе назвали когдато «неугасимым светом», о происхождении гробницы и об истории покоившегося в ней Абдулах‑паши.
Низкий каменный саркофаг покрыт зеленым сукном с надписью: «Пусть всевышний озарит его могилу», толстая восковая свеча в высоком деревянном подсвечнике, день и ночь горевшая над темной могилой в немощном усилии выполнить то, о чем молила бога надпись и чего он, по‑видимому, не хотел исполнить. Паша высоко вознесся еще в дни молодости и случайно вернулся на родину умирать. Да, все вспомнил Давиль, словно судьба паши была судьбой каждого, в том числе и его собственной. Вспомнил, как Дефоссе перед отъездом удалось‑таки найти и прочитать завещание Абдулах‑паши и как живо и подробно он рассказывал ему об этом.
Зная, как мало света в этой долине, паша завещал мусульманской общине дома, кметов, а также некоторую сумму денег с единственным условием, чтобы над его могилой до скончания веков горела большая свеча. И все закрепил письменно и утвердил еще при жизни у кадии, при свидетелях: и качество воска, и вес свечи, и плату человеку, который будет менять и зажигать ее, с тем чтобы никогда никто из потомков или чужестранцев не мог нарушить его волю. Да, паша знал, какие в этой теснине, где ему суждено пролежать до Судного дня, темные вечера и туманные дни, знал и то, как быстро забывают люди живых и усопших, нарушают обязательства и обеты. И когда он лежал больной на галерее без надежды на выздоровление, без надежды на то, что глазам его, столько видевшим, откроется что‑нибудь еще, кроме этой теснины, в неизмеримой печали о безвременно отлетевшей жизни, – единственным слабым утешением для него была мысль о чистом пчелином воске, который будет сгорать над его могилой спокойным, бесшумным пламенем, без дыма и до конца. Все, что в течение короткой жизни приобрел паша трудом, храбростью и умом, он отдал за это маленькое пламя, которое светилось над его бесчувственным прахом. Наглядевшись за свою беспокойную жизнь на многие страны и разных людей, он понял, что огонь – основа созданного мира: видимо или невидимо, в бесчисленных формах и в различной степени он движет жизнью и он же ее уничтожает. А потому его последняя мысль была об огне. Конечно, слабенькое пламя – это не так уж много, и не так уж оно надежно и, вероятно, не вечно, но оно будет освещать одну точку мрачной и холодной земли. А это значит, что оно отразится в глазах каждого проходящего хотя бы самым слабеньким лучом.
Да, странное завещание и странные люди! Однако тот, кому довелось прожить здесь несколько лет и проводить ночи вот так у окна, легко и до конца это поймет.
Давиль с трудом отвел глаза от мерцавшего огонька, все сильнее тонувшего во мраке и тумане. И сразу перед ним возникли воспоминания о минувшем дне, о мучительном разговоре с визирем, вспомнились Ибрагим Халими‑паша и Тахир‑бег, тогдашний тефтедар, о смерти которого он узнал сегодня вечером.
Тефтедар стоял перед ним более живой, чем когда он был в Травнике. Согнувшись, со сверкающими, слегка косящими глазами, он, как и тогда, в такой же холодный вечер, говорил:
– Да, господин консул, лицо победителя каждый видит в сиянии или, как говорит персидский поэт: «Лицо победителя подобно розе».
– Да, лицо победителя подобно розе, а лицо побежденного подобно кладбищенской земле, от которой каждый отворачивается и бежит.
Давиль вслух произнес этот ответ, который он не высказал тогда тефтедару.
И тут же вспомнил весь свой разговор с покойным Тахир‑бегом. Снова почувствовав холодную дрожь во всем теле, он позвонил, чтобы принесли свечи.
Но и после этого Давиль часто подходил к окну, глядел на сияние восковой свечи в гробнице Абдулах‑паши и на маленькие тусклые огоньки в травницких домах, продолжая размышлять об огне во вселённой, о судьбе побежденных и победителей, вспоминал живых и умерших, пока наконец один за другим не погасли огни во всех окнах и даже в австрийском консульстве. (Победители рано ложатся и крепко спят!) Осталась только печальная свеча в гробнице, да на противоположном конце города светил огонь, – сильнее и ярче. Это кто‑то гнал ракию, как всегда в это время года.
И действительно, на том конце Травницкой теснины, занесенной мокрым снегом, в сарае Петара Фуфича водрузили на огонь первый котел и принялись гнать ракию. Сарай стоял за городом, над самой Лашвой, ниже дороги, ведущей в Калибунар.
В долине дул ледяной сквозной ветер. А в сарае, стоявшем у воды, всю ночь гудела и завывала под крышей «ведьма», выбрасывая дым наружу.
Под котлом шипели сырые дрова; вокруг огня бродили закутанные, прозябшие, перепачканные копотью люди, повязанные красными шалями, и боролись с дымом, искрами, ветром и сквозняком, непрестанно куря при этом крепкий табак, который обжигал губы и ел глаза.
Тут был и Танасие, прославленный мастер котла и ракии. Летом у него было мало работы. Но как только падала на землю первая слива, он начинал ходить от дома к дому, по местечкам вокруг Травника и даже дальше. Никто лучше его не умел сварить и разлить ракию. Этот мрачный человек весь свой век провел в холодных задымленных сараях, всегда бледный, небритый, заспанный и недовольный. Как все хорошие мастера, он был вечно неудовлетворен и своей работой, и теми, кто ему помогал. Его разговор состоял из сердитой воркотни, а все распоряжения делались в отрицательной форме.
– Не так. Не перевари смотри… Не прибавляй… Не трогай больше… Оставь, довольно… Отодвинься… Отойди.
И после этого сердитого и невнятного бормотания, которое, однако, его помощники отлично понимали, из потрескавшихся и закоптелых рук Танасие, из всей этой грязи, дыма и кажущегося беспорядка выходил в конце концов превосходный напиток – чистейшая ракия разных сортов: первач, крепкая, слабая и сивуха; блестящий, огненный напиток, прозрачный и целебный, без сора и сажи, без следа тех мук и грязи, в которых он родился; не пахнущий ни дымом, ни гнилью, а сохраняющий только аромат сливы и плодового сада, разлитый в сосуды, драгоценный и чистый, как слеза. И все это время Танасие заботился о нем, о нежном новорожденном, забыв под конец и свою воркотню и придирки, и лишь шевелил губами, словно неслышно нашептывал ворожбу, и глядел на струю ракии, и по этой струе, даже не пробуя на язык, на глаз безошибочно определял крепость, качество и сорт.
Вокруг горящего под котлом огня всегда собирались гости из города, и среди них обычно какой‑нибудь заезжий или бездельник, гусляр или говорун, потому что приятно было есть, пить и беседовать, сидя у котла, несмотря на то, что дым щипал глаза, а спину обдавало холодом. Для Танасие всех этих людей не существовало. Он работал и бормотал, указывая только на то, чего не надо делать, и при этом шагал через сидящих вокруг огня людей, словно это были существа бестелесные. По его понятиям, эти бездельники, видимо, являлись составной частью варки ракии, во всяком случае, он не звал их и не прогонял, а попросту не замечал.
Танасие гнал ракию по городам, местечкам и монастырям уже целых сорок лет. Так же, как и теперь. Только видно было, что он осунулся и постарел. Его воркотня едва была слышна и переходила в кашель и старческое брюзжание. Его густые косматые брови поседели и постоянно, как и все лицо, были выпачканы сажей и глиной, которой замазывают котел. Из‑под спутанных бровей чуть виднелись глаза, как два стеклышка с изменчивым блеском, которые то ярко вспыхивали, то совсем гасли.
В этот вечер вокруг огня собралось большое общество. Сам газда Петар Фуфич, два травницких серба‑торговца, гусляр и Марко из Джимрия, юродивый и знахарь, который постоянно бродил по Боснии, но в Травник попадал редко и то не дальше этого сарая, не заходя ни в город, ни на базар.
Марко был опрятный, седенький крестьянин из восточной Боснии, маленький, живой и проворный, весь какой‑то ловкий и ладный.
Марко славился как знахарь и пророк. В родном селе у него были взрослые сыновья и замужние дочери, земля и дом. Но, овдовев, он начал молиться богу, вразумлять людей и предсказывать будущее. На деньги он не был падок и пророчил не всегда и не каждому. С грешниками обходился сурово и беспощадно. Турки его знали и разрешали пророчествовать.
Попадая в какое‑нибудь селение, Марко обходил дома богатых и направлялся в сарай или дом попроще и усаживался возле огня. Беседовал с мужчинами и женщинами, которые там собирались. Но в какой‑то определенный момент выходил в ночь и оставался во дворе час, а то и два. Вернувшись, покрытый росой или мокрый от дождя, он садился у огня, где слушатели терпеливо ждали его, к, глядя на тоненькую тисовую дощечку, начинал говорить. Но чаще он обращался предварительно к комунибудь из присутствовавших, резко изобличал его в грехе и предлагал покинуть общество. Особенно доставалось женщинам.
Внимательно всмотревшись в какую‑нибудь женщину, он говорил спокойно, но решительно:
– А у тебя, сноха, руки‑то до локтей горят. Пойди погаси огонь, сними с себя грех. Сама знаешь, какой на тебе грех.
Пристыженная женщина исчезала, и только после этого Марко начинал пророчествовать.
И в этот вечер Марко выходил из сарая, невзирая на то, что дул резкий ветер и сыпал дождь пополам со снегом. А вернувшись, долго смотрел на свою дощечку, постукивая по ней левым указательным пальцем, и затем медленно заговорил:
– В этом городе тлеет огонь, во многих местах тлеет. Его не видно, потому что люди носят его в себе, но наступит день, когда он вспыхнет и охватит правых и виноватых. В тот день ни одного праведника не застанешь в городе, а только за его чертой. Далеко за его чертой. И пусть каждый молит бога, чтобы он сподобил его попасть в их число.
Тут он вдруг повернулся осторожно и медленно к Пета ру Фуфичу.
– Газда Перо, и у тебя в доме плач стоит. Великий плач, и еще больше будет, но все добром кончится. К добру поворачивается. А ты о церкви пекись да нищих не забывай. И следи, чтобы не угасала лампадка перед иконой святого Дмитрия.
Слушая старца, газда Перо, человек угрюмый и гордый, опустил голову и уставился на свой шелковый пояс. Воцарились тишина и замешательство и длились до тех пор, пока Марко не начал опять смотреть на свою дощечку и задумчиво постукивать по ней ногтем. Из этого сухого звука незаметно стал выделяться его мягкий, но твердый голос, сперва слышались отдельные невнятные слова, потом речь его полилась яснее:
– Эх, бедные христиане, бедные христиане!!!
Так началось одно из тех пророчеств, которые Марко время от времени изрекал и которые потом, передаваясь из уст в уста, широко разносились сербами.
– Вот в кровь залезли. По щиколотку кровь, и все поднимается. Кровь отныне и на сто лет вперед, и еще на полсотни. Так вижу. Шесть поколений пригоршнями передают кровь друг другу. Христианскую кровь. Придет время, когда все дети станут по книгам учиться грамоте; люди будут переговариваться с разных концов земли и слышать каждое слово, да только не поймут друг друга. И одни войдут в силу и накопят блага, каких свет не запомнит, но богатство их погибнет в крови, и ни ловкость, ни смекалка им не помогут. Другие же обнищают и изголодаются так, что собственный язык жевать начнут и будут призывать смерть, но она останется глуха и нетороплива. И сколько бы земля ни родила, всякая пища опротивеет от крови. Кресты потемнеют сами собой, и тогда явится человек, наг и бос, без посоха и сумы, ослепит всех своей мудростью, силой и красотой, избавит людей от крови и гнета и утешит каждую душу. И воцарится третий из святой троицы.
Слова старика раздавались все глуше, все непонятнее и превратились под конец в какой‑то неясный шепот, сопровождающийся тихим и равномерным постукиванием ногтя о сухую, тонкую дощечку из тисового дерева.
Все смотрели на огонь, пораженные этими словами, не вполне понятный смысл которых подавлял их, наполняя тем неопределенным волнением, с каким простые люди слушают всякое пророчество.
Танасие поднялся, чтобы проверить котел. Тут один из торговцев спросил Марко, приедет ли в Травник русский консул.
Наступило молчание, и все почувствовали неуместность этого вопроса. Старец ответил резко и гневно:
– Не приедет ни он и никакой другой, зато скоро уедут те, что здесь сидят, близится время, когда большая дорога проляжет вдали от этого города; захотите посмотреть на путников и торговцев, но они пройдут стороной, а вы будете продавать друг другу и покупать друг у друга. Тот же грош будет переходить из рук в руки, но нигде не залежится, нигде не даст прибыли.
Торговцы переглянулись. Водворилось неловкое молчание, но через минуту оно было прервано перебранкой между Танасие и молодым его помощником. Разговорились и торговцы. А на лице старца снова появилась привычная скромная улыбка. Он открыл свою потертую кожаную сумку и стал вынимать из нее кукурузный хлеб и головки лука. Парни жарили на углях мясо. Оно шипело и распространяло сильный запах. Старцу ничего не предлагали – всем было известно, что он питался лишь сухой пищей, которую носил в своей маленькой сумке. Он поел, не спеша и со вкусом, а потом перешел на другую сторону помещения, куда не достигали ни дым, ни запах жареного мяса, и тут, свернувшись клубочком, заснул, подложив ладонь, как ребенок, под правую щеку.
Под ракию разговор между торговцами пошел живее, но все поглядывали в угол, где спал старец, и невольно понижали голос. Они чувствовали себя неловко в его присутствии, исполненные в то же время торжественной важности, которая была им приятна.
А Танасие то и дело взбадривал огонь, подбрасывая буковые поленья, сонливый и мрачный по обыкновению, терпеливый и стойкий, как сама природа, не помышляя о том, что на другом конце Травника французский консул смотрит на красный отблеск его огня, не подозревая в своей простоте, что на свете существуют консулы и люди, которым не спится.
XXVII
Первые месяцы 1814 года, последние месяцы в Травнике, Давиль провел в полном уединении, «готовый ко всему», не получая инструкций и вестей ни из Парижа, ни из Стамбула. Жалованье телохранителям и прислуге он платил из собственных средств. Французскими властями в Далмации владела тревога. Французские путешественники и курьеры больше не появлялись. Вести из австрийских источников, достигавшие Травника нескоро и в искаженном виде, были все более неблагоприятными. В Конак Давиль перестал ездить, потому что визирь принимал его все менее любезно и с каким‑то оттенком рассеянного и обидного добродушия, коловшего больнее грубости или оскорбления. Впрочем, для всего края визирь с каждым днем становился все более тяжким и невыносимым. Его албанцы вели себя в Боснии как в покоренной стране, обирая и турок и христиан. Среди мусульманского населения сильнее разрасталось недовольство, причем не явное, выражающееся в криках и мелких городских волнениях, а глухое и молчаливое, которое долго тлеет, а вспыхнув, несет кровь и резню. Визирь был опьянен своей победой в Сербии. Правда, впоследствии из рассказов знающих людей и свидетелей выяснилось, что победа была сомнительной,[76] а участие Али‑паши незначительным. Зато для самого Али‑паши она приобретала все более важное значение. С каждым днем он вырастал в собственных глазах как победитель. И с каждым днем росли и его дерзкие выпады против бегов и видных турок. Но именно этим визирь сам ослаблял свое положение. Ибо насилием можно пользоваться для переворотов или внезапных нападений, но нельзя постоянно управлять с помощью этого метода. Террор как средство власти быстро теряет свою силу. Это известно каждому, кроме тех, кто в силу обстоятельств или собственных склонностей вынуждены применять террор. А визирь никаких других средств не знал. Он и не замечал, что у бегов и айянов уже «умер страх» и что его выпады, вначале вызывавшие настоящую панику, теперь больше никого не пугали так же, как и ему не становилось от них легче. Раньше беги дрожали от страха, а теперь «застыли и онемели», в то время как он, напротив, дрожал от ярости при малейшем признаке непокорности и сопротивления, и даже их молчание вызывало в нем подозрение. Коменданты городов переписывались, беги перешептывались, а торговые люди во всех городах хранили опасное молчание. С наступлением теплых дней можно было ожидать открытого выступления против господства Али‑паши. Давна предсказывал это с уверенностью.
Монахи избегали французское консульство, хотя госпожу Давиль, когда она по воскресеньям и праздникам приходила в долацкую церковь на мессу, встречали с прежней любезностью.
Телохранители старались выяснить у Давны, как долго останутся они на французской службе. Рафо Атияс, которому не хотелось возвращаться в дядин склад, искал место переводчика или доверенного лица. Австрийское консульство все время незаметно распространяло в народе вести о победах союзников и о том, что падение Наполеона – вопрос дней. И все больше укоренялось мнение, что время французского влияния окончилось и дни консульства в Травнике сочтены.
Фон Паулич нигде не показывался и ни с кем ни о чем не говорил. Давиль не виделся с ним уже полгода, с тех пор как Австрия вступила в войну, но каждую минуту ощущал его присутствие; он думал о фон Пауличе с особым чувством, которое нельзя было назвать ни страхом, ни завистью, но в котором было и то и другое; казалось, Давиль видел, как в большом здании по ту сторону Лашвы тот спокойно руководил делами, холодный, полный сознания своей правоты, никогда не испытывающий ни сомнений, ни колебаний, добросовестный, но хитрый, безупречный, но жестокий. Полная противоположность безумному и невменяемому победителю в Конаке, он на деле являлся подлинным победителем в игре, уже годами разыгрывавшейся в Травницкой долине. Он ждал спокойно и терпеливо, чтобы припертая к стене жертва сдалась и тем самым возвестила о его победе.
Этот момент настал. И тут фон Паулич ощутил гордость, как человек, участвовавший в старинной и торжественной игре с неизменно трудными, но логичными правилами, одинаково справедливыми и честными как для побежденных, так и для победителей.
В один из апрельских дней, впервые за последние семь месяцев, во французское консульство пришел служащий австрийского консульства и принес письмо для Давиля.
Давиль знал этот почерк, его ровные и правильные линии, словно стальные стрелы, одинаково острые и идущие в одном направлении. Он знал этот каллиграфический почерк, догадывался о содержании письма, но все же был потрясен его содержанием.
Фон Паулич писал, что получил только что известие о счастливом окончании войны между союзниками и Францией. Наполеон отрекся от престола: На французский престол призван законный государь. Сенат принял новую конституцию, образовано новое правительство во главе с Талейраном, князем Беневентским.[77] Он сообщает Давилю эти известия, касающиеся его родины, полагая, что они представляют для него интерес; он счастлив, что окончание войны позволит возобновить их взаимоотношения, просит передать госпоже Давиль уверения в неизменном уважении, и так далее и тому подобное.
Консул был настолько поражен, что подлинный смысл и истинное значение этого сообщения не сразу дошли до его сознания. Он отложил письмо и встал из‑за стола, словно получил от фон Паулича какое‑то давно ожидаемое извещение.
Еще раньше, а в особенности с декабря прошлого года, после поражения в России, Давиль задумывался над возможностью такого конца, размышлял о нем и старался определить свое отношение к нему.
Так постепенно и незаметно он старался примириться с падением империи, с самой возможностью этого факта. С каждым днем и с каждым событием эта отдаленная и давнишняя угроза надвигалась и, постепенно превращаясь в реальность, стала действительностью. А за императором и империей смутно проглядывала жизнь, вечная, всемогущая, всеобъемлющая жизнь со своими неисчислимыми возможностями.
Он и сам не знал, когда стал думать о мировых событиях и делах без Наполеона в качестве основной предпосылки. Сначала это было трудно и болезненно, походило на своего рода головокружение; он будто спотыкался, как человек, у которого земля уходит из‑под ног. Затем он ощутил в себе полную опустошенность, отсутствие всякого воодушевления и уверенности; его ждала жалкая жизнь, лишенная перспектив и зовущих вдаль иллюзий, которые, хоть и неосуществимы, придают нам силы и подлинное достоинство на жизненном пути. В конце концов он так много об этом думал и столько раз предавался этим переживаниям, что начал все чаще оценивать и мир, и Францию, и свою судьбу, и судьбу своей семьи с этой вымышленной точки зрения.
Все это время Давиль, как всегда, добросовестно исполнял свои обязанности, читал циркуляры и статьи в «Moniteur», выслушивал рассказы курьеров и путешественников о планах Наполеона для защиты Франции в более узких границах и о видах на заключение мира с союзниками. Но сразу же возвращался к своим мыслям о том, во что все это выльется, когда исчезнут император и империя, и все дольше на них останавливался.
Одним словом, с ним происходило то же самое, что и с тысячами французов, уставших на службе режиму, который погубило то, что он требовал от людей больше, чем они могли дать.
А когда человек мысленно примиряется и свыкается с чем‑нибудь, то рано или поздно начинает находить этому подтверждение в окружающей действительности. И это было тем легче, что события развивались в том же направлении, что И мысли, и часто их опережали.
За последнее время Давиль, к своему удивлению, понял, что проделал в этом направлении большую часть пути. Забывая о длительной внутренней борьбе, пережитой им за последний год, он считал, что легко и незаметно достиг той точки, на которой находился теперь. Во всяком случае, он давно уже чувствовал себя человеком, «готовым ко всему», что в действительности означало, что в душе он окончательно порвал со строем, доживавшим свои дни во Франции, и готов был примириться с тем строем, который придет ему на смену, каков бы он ни был.
И все‑таки сейчас, в момент, когда все это предстало перед ним в качестве свершившегося факта, Давиль вел себя так, словно получил неожиданный и слишком сильный удар. Он ходил по комнате и все отчетливее сознавал значение того, что прочитал в письме фон Паулича, и это вызывало в нем все новые волны смешанных чувств: удивления, страха, сожаления и какого‑то горького удовлетворения тем, что он сам и его близкие остались живы и невредимы среди всех этих крушений и перемен, и снова страхи и неизвестность. Почему‑то вспомнились ему слова из Ветхого завета – «Дивны дела твои, господи!» – и постоянно звучали, как навязчивая мелодия, хотя он не смог бы объяснить, ни что это за дела, ни в чем их величие и вообще что тут общего с богом и Библией.
Долго он ходил так по холодной комнате, не будучи в силах остановиться на одной какой‑нибудь мысли, а тем более привести их в какой‑то относительный порядок. Он почувствовал, что для этого ему потребуется много времени.
Он понял, что в момент удара всякие размышления, предположения и умиротворения не помогают и не имеют большой цены. Потому что думать о грядущих опасениях, представлять их, предвидеть самое худшее, размышлять о своем положении и своей защите, испытывая в то же время удовлетворение от сознания, что пока все в порядке и на своем месте, – это одно; а очутиться перед настоящим крахом, требующим быстрых решений и живых, действенных поступков, – совсем другое. Одно дело слушать, как подвыпивший и малодушный приятель из морского министерства с воспаленными глазами говорит: «Император сошел с ума! Все мы вместе с ним летим в пропасть, ожидающую нас после всех побед!», – и совсем другое – осознать и воспринять как реальность, что империя побеждена и рухнула, что Наполеон теперь – только свергнутый монарх‑узурпатор, который ценился бы выше, если бы погиб в одной из своих победоносных битв. Одно дело сомневаться в пользе побед и длительности военных успехов, что все чаще мучило Давиля в последние годы, и раздумывать, что станется с ним и его близкими «в случае, если…», и совсем другое – внезапно узнать, что в одну ночь не стало, словно никогда и не существовало, не только революции и того, что она с собой принесла, но и «генерала», и непреодолимой веры в его магический гений победителя, и всего строя, который на нем покоился, и что теперь надо сразу вернуться в то состояние, в котором был Давиль, когда еще ребенком на площади родного города, вдохновленный «королевской милостью», громко приветствовал Людовика XVI.
Даже и во сне не приснится такое.
Не будучи в состоянии справиться с собой, проникнуть в смысл совершавшихся событий и предугадать будущее, Давиль ухватился за тот факт, что во главе правительства находится его старый покровитель Талейран. Это представилось ему единственным шансом на спасение, знаком особого благоволения судьбы к нему лично среди всеобщей ломки и развала.
Как и с «генералом», Давиль только раз в жизни беседовал с Талейраном, и то более восемнадцати лет тому назад, когда тот еще не был знаменит и не носил титула князя Беневенты. Талейран обратил внимание на статьи Давиля в «Moniteur» и захотел его видеть. Он принял его на несколько минут в импровизированном салоне, в министерстве иностранных дел, где господствовал в то время ужасающий беспорядок не только в работе, но и среди сотрудников, и в обстановке, и в распорядке дня. Их короткий разговор носил такой же характер.
Плотный человек, который принял его стоя и не менял позы в продолжение всего разговора, поверхностно скользнул по Давилю вызывающе спокойным, всеохватывающим взглядом, будто интересующий его предмет находился позади молодого человека. Говорил он тоже рассеянно и поверхностно, словно сожалел, что обратил внимание на статьи Давиля и выразил желание его видеть. Сказал, что «надо продолжать» и что он всегда его поддержит в работе и по службе. Это, в сущности, было все, что Давиль увидел и услышал от своего покровителя. И тем не менее все эти восемнадцать лет и для самого Давиля, и для всех чиновников министерства было ясно, что Давиль ставленник Талейрана и что его служебная карьера зависит от счастливой звезды министра. И действительно, Талейран неизменно оказывал ему поддержку, когда был у власти и в силе. Влиятельные люди часто упорно тащат за собой тех, кому покровительствуют, хотя не знают и не ценят их, делая это ради самих себя, так как покровительство и защита, которые они оказывают этим людям, служат явным доказательством их собственной силы и значения.
«Обращусь к князю, – говорил себе Давиль, не зная еще, зачем и каким образом. – Обращусь к князю», – повторял он всю ночь, не в состоянии придумать ничего другого, в тоске оттого, что не с кем посоветоваться. Наутро он проснулся усталый и встревоженный, в такой же нерешительности, как и накануне.
Видя, как его жена, ничего не подозревавшая, хлопотала по дому и занималась работами в саду, словно собиралась весь век прожить в Травнике, он казался себе каким‑то проклятым существом, которое знает больше остальных смертных, а потому значительнее и несчастнее их.
Прибытие курьера из Стамбула вывело его из состояния нерешительности. Курьер вез поздравление посла и персонала новому правительству, а также выражение их преданности законному государю Людовику XVIII и Бурбонской династии. Курьер привез Давилю приказ известить визиря и местные власти о происшедших во Франции переменах и сообщить, что отныне он находится в Травнике в качестве представителя Людовика XVIII, короля Франции и Наварры.
Словно по давно обдуманному плану или под неслышную диктовку, Давиль без всяких промедлений и колебаний в тот же день написал все, что требовалось для Парижа.
«От здешнего австрийского консула я узнал о счастливом перевороте, возвратившем на французский престол потомка Генриха Великого и принесшем Франции мир и надежды на лучшее будущее. Пока жив, буду сожалеть о том, что в те минуты не был в Париже и не мог к восторженным кликам народа присоединить и свой голос».
Так начиналось письмо Давиля, в котором он предоставлял себя в распоряжение нового правительства, прося «положить к подножию престола выражение его верноподданнических чувств», скромно подчеркнув, что он, обыкновенный гражданин, один из двадцати тысяч парижан, подписавших знаменитую петицию в защиту короля мученика Людовика XVI и королевского дома.
Письмо заканчивалось выражением надежды, что «после железного века наступит золотой».
Одновременно он послал Талейрану поздравление в стихах, что часто делал и ранее, когда Талейран находился у власти. Поздравление начиналось следующими строками:
Des peuples et des Bois heureux modérateur,
Talleyrand, tu deviens notre libérateur![78]
Так как курьер не мог ждать и у Давиля не было времени закончить свое произведение, он назвал дюжину жалких строк фрагментом.
Давиль предлагал также упразднить консульство, так как при совершенно изменившихся обстоятельствах необходимость в нем отпала, просил разрешения покинуть с семьей Травник еще в течение этого месяца, поручив Давне, верность которого испытана и многократно доказана, управлять консульством и заниматься его ликвидацией. Ссылаясь на исключительные обстоятельства, Давиль добавлял, что выедет в Париж вместе с семьей, если до конца месяца не получит других инструкций.
Всю ночь Давиль провел, сочиняя поздравления, просьбы и письма. Спал всего два часа, но встал свежий и бодрый и отправил курьера.
Из цветника, где еще не распустившиеся тюльпаны сгибались от обильной росы, Давиль следил, как курьер и его провожатый пробирались по крутому спуску на дорогу в долине. Их кони по колено утопали в низком густом тумане, красном от невидимого солнца, и погружались в него все глубже, пока совсем не исчезли из виду.
Консул вернулся в свой кабинет. На всем видны были следы минувшей ночи, проведенной в работе и писании: искривленные и обгоревшие свечи, разбросанные бумаги, сломанный сургуч. Ни к чему не прикасаясь, Давиль сел среди этих черновиков и порванных бумаг. Он чувствовал сильнейшую усталость, но и огромное облегчение от сознания, что все исполнено и послано кому надо, твердо и бесповоротно, что больше не может быть ни сомнений, ни колебаний. (Сел за стол и склонил отяжелевшую голову на сложенные руки.)
И все‑таки трудно не думать, не вспоминать, не видеть. Двадцать пять лет потратил он на поиски «среднего пути», приносящего спокойствие и придающего личности то достоинство, без которого нельзя жить. Двадцать пять лет шел он, искал и находил, терял и снова обретал, переходя от одного «увлечения» к другому, и вот теперь, усталый, разбитый, опустошенный, очутился на том же самом месте, откуда тронулся в путь восемнадцатилетним юношей. Значит, ему только казалось, что путь вел вперед, на самом деле он кружил, как в обманчивом лабиринте восточных сказок, и наконец привел его, усталого и разочарованного, на это место среди порванных бумаг и разбросанных черновиков, на ту точку, откуда вновь начинается круг, равно как и от каждой другой точки круга. Значит, не существует среднего пути, того настоящего, который ведет вперед, к постоянству, покою и достоинству; значит, все мы вращаемся по кругу, всегда одним и тем же путем, путем обмана; сменяются в движении лишь люди и поколения, вечно обманутые. Значит, – заключала утомленная и ошибочная мысль усталого человека, – вообще нет пути, и тот, которым поведет теперь, ковыляя, его хромой покровитель, всемогущий князь Беневенты, только часть круга, представляющего собой само бездорожье. Всегда в пути. А путь этот осмыслен и благороден лишь постольку, поскольку мы находим эти качества в себе. Ни пути, ни цели. Всегда в пути. Путь, потери, усталость.
Да, вот и он идет без остановки и отдыха. Голова его падает, глаза слипаются сами собой, и перед ним расстилается красный туман, лошади дробно переступают заплетающимися ногами и, все глубже погружаясь в этот туман, исчезают в нем вместе со всадниками. Все новые и новые бесчисленные кони и всадники возникают и тонут в этом беспредельном тумане, падая от усталости и желания спать.
Опустив голову на сложенные руки, Давиль, сломленный усталостью и путаницей в мыслях, уснул за письменным столом среди бумаг и огарков свечей, оставшихся от прошлой ночи. Только бы спать, не поднимать головы, не открывать глаз, пусть даже в этом сыром, красном тумане, в самой гуще всадников. Но нет. Один из всадников позади него все время безжалостно прикладывает холодную руку к его шее и говорит что‑то непонятное. Он все ниже опускает голову, но его будят все настойчивее.
Подняв голову и открыв глаза, он увидел улыбающееся лицо жены, смотревшей на него с укоризной. Госпожа Давиль начала упрекать его за то, что он так переутомляется, уговаривала раздеться, лечь и отдохнуть. Но теперь, когда его разбудили, одна мысль остаться в кровати наедине со своими думами показалась ему невыносимой. Разговаривая с женой, он стал приводить в порядок бумаги на столе. До сих пор Давиль не хотел говорить ей определенно и ясно о переменах, происшедших в мире и во Франции и об их значении для них лично. Теперь же это показалось ему и легким и простым.
Когда госпожа Давиль отчетливо уяснила себе, что все, включая их собственное положение, коренным образом менялось и что действительно наступал конец их пребыванию в Травнике, она сначала смутилась, потрясенная. Но только на мгновение, пока не отдала себе отчет, что это означало для ее семьи и какие реальные задачи ставило перед ней самой. Поняв, она успокоилась. И они сразу заговорили о дороге, перевозке вещей и будущей жизни во Франции.
XXVIII
Госпожа Давиль взялась за дело.
Точно так же, как некогда устраивала и обставляла этот дом, теперь она готовила все к отъезду: спокойно, внимательно и неутомимо, не жалуясь и не спрашивая ни у кого совета. Началась постепенная и обстоятельная разборка дома, который она создавала в течение семи лет. Все было записано, упаковано и приготовлено в дорогу. Самым больным местом для госпожи Давиль был цветник и большой огород с грядками овощей.
Белые гиацинты, которые госпожа фон Миттерер когда‑то окрестила «Свадебная радость» и «Августейшие молодожены», все еще были свежие и пышные, а в самой середине росли голландские тюльпаны разных оттенков, которыми госпожа Давиль обзавелась за последние годы в большом количестве. В прошлом году они были слабенькие и неровные, а нынче оказались замечательными и только что расцвели, пышные и ровные, похожие на ряды школьников в церковной процессии.
В огороде уже цвел зеленый горошек, семена которого госпожа Давиль получила в прошлом году от фон Паулича за несколько недель до объявления войны. Теперь их окучивал Мунджара.
Немой и теперь работал, как каждую весну. Он ничего не знал о мировых событиях, не знал и о переменах в судьбе этих людей. Для него нынешний год был таким же, как прошлые. Вечно согнувшись, он разминал руками землю, унаваживал, пересаживал и поливал, улыбаясь Жану Полю или маленькой Евгении, если девочку выносили на террасу. Быстро и ловко перебирая своими запачканными землей пальцами, невнятно бормоча и гримасничая, как все глухонемые, он объяснял госпоже Давиль, что такой же самый сорт горошка в саду фон Паулича и выше, и цветет обильнее, но что это не имеет значения, так как по цветению еще нельзя судить об урожае. Это будет видно, только когда появятся стручки.
Госпожа Давиль посмотрела на него, знаками подтверждая, что все поняла, и ушла в дом продолжать собираться. И тут только сообразила, что через несколько дней придется все покинуть, и дом, и сад, и что ни она, ни ее близкие не увидят зрелого горошка. И на глазах у нее навернулись слезы.
Во французском консульстве спокойно готовились к отъезду. Но один вопрос тревожил Давиля. Это вопрос о деньгах. Небольшую сумму, которую удалось сэкономить, он еще раньше перевел во Францию. Жалованье не поступало уже несколько месяцев. Сараевские евреи, имевшие дела с Фрессине и часто выручавшие консульство, стали теперь недоверчивы. У Давны были сбережения, но он оставался в Травнике в неопределенной роли и полной неизвестности; несправедливо было бы лишать его накопленного, прося одолжить государству, и притом без верного обеспечения.
Переводчики, и Давна и Рафо Атияс, прекрасно знали о затруднениях Давиля. И когда он мучился, не зная, к кому обратиться, к нему пришел старый Соломон Атияс, дядя Рафо, самый видный из братьев, глава многочисленного рода травницких Атиясов.
Низенький, упитанный, кривоногий, в засаленной антерии, без признаков шеи, с большими глазами навыкате, как у людей, страдающих пороком сердца, он был весь в поту и задыхался от непривычного подъема на гору в жаркий майский день. Атияс опасливо закрыл за собой дверь и, отдуваясь, повалился на стул. От него несло чесноком и сыромятной кожей. Он положил на колени черные волосатые кулаки, на каждом волоске блестела капелька пота.
Обменялись несколько раз приветствиями, возвращаясь к тем же ничего не значащим выражениям вежливости. Ни Давилю не хотелось признаваться, что он с семьей навсегда покидает Травник, ни грузному, тяжело отдувавшемуся газде Соломону никак не удавалось объявить, ради чего он пришел. Наконец осипшим, гортанным голосом, всегда запоминавшим Давилю Испанию, Атияс стал уверять, что он понимает, как велики потребности государства и чиновников этого государства в связи с неожиданными переменами, понимает, какие трудные времена настали для всех, даже для торговца, занимающегося только своим делом, наконец, вот и господин консул не получил вовремя казенных денег, а дорога есть дорога, и служба не может ждать, и вот он, Соломон Атияс, всегда готов к услугам французского императорского… королевского консульства и лично господина консула со всем тем немногим, чем он располагает.
Давиль, подумавший сначала, что Атияс пришел с какой‑нибудь нуждой или просьбой, был удивлен и тронут. От волнения голос у него задрожал. Мускулы возле рта и на подбородке, там, где розовая кожа начала блекнуть, собираться в морщины и отвисать, заметно подергивались.
Начались смущенные уговоры и изъявления благодарности. Наконец договорились, что Атияс одолжит консульству двадцать пять имперских дукатов под вексель.
Большие выпученные глаза Соломона увлажнились и сильно заблестели, несмотря на желтоватые и налитые кровью белки. В глазах Давиля тоже стояли слезы от волнения, которое не покидало его все эти дни. Теперь они разговаривали легче и более непринужденно.
Давиль подбирал слова, чтобы выразить свою благодарность. Он говорил о том, что понимает евреев и симпатизирует им, о необходимости человеческого взаимопонимания и помощи друг другу. Он придерживался общих и неопределенных выражений, так как не мог больше говорить о Наполеоне, имевшем огромную притягательную силу и особое значение для евреев, и, уж конечно, не мог открыто упоминать новое правительство и произносить имя нового государя. Соломон смотрел на него своими большими глазами, не переставая потеть и тяжело дышать; как будто ему самому все это было ясно и мучительно, быть может, более мучительно, чем Давилю, будто он отлично понимал, что за страшное бедствие представляют собой все эти императоры, визири и министры, чье появление и исчезновение отнюдь от нас не зависит, но которые тем не менее влияют на наше возвышение или гибель и отражаются на нас, наших семьях, нашем положении и на всем, что мы имеем. По глазам его можно было также понять, как он страдает оттого, что ему пришлось покинуть свой мрачный склад и груды кож, подняться на это возвышенное и залитое солнцем место и сидеть с консулом на непривычных стульях в роскошных апартаментах.
Довольный, что вопрос относительно денег на дорогу решен столь неожиданно просто и желая придать разговору более веселый тон, Давиль сказал полушутливо:
– Я вам очень благодарен и никогда не забуду, что при всех своих заботах вы удосужились подумать и о судьбе представителя Франции. Говоря откровенно, я поражаюсь, как после всего, что вам довелось претерпеть, после таких поборов, вы еще в состоянии давать взаймы. Ведь визирь похвалялся, что дочиста опустошил ваши денежные ящики.
При упоминании о гонениях и поборах, которые евреям пришлось вынести от Али‑паши, глаза Соломона приобрели застывшее, озабоченное выражение; это был печальный взгляд животного.
– Да, нам это дорого обошлось, взято у нас много, и наши денежные ящики опустошены до дна, но вам я могу сказать, и вы должны это знать…
Тут Соломон бросил смущенный взгляд на свои потные руки, лежавшие на коленях, и после небольшого молчания продолжал каким‑то изменившимся, более высоким голосом, словно говорил с другого конца комнаты:
– Да, нагнали на нас страху и обобрали… Да… Верно, что визирь суровый властелин, суровый и тяжелый. Но ему‑то один раз пришлось иметь дело с евреями, а на наших глазах прошли десятки и десятки визирей. Визири сменяются и уезжают. Правда, каждый что‑нибудь с собой увозит. Уезжают и забывают о том, что здесь творили, как поступали, приезжают новые, и каждый начинает все сызнова. А мы остаемся тут, запоминаем, отмечаем все, что испытали, как защищались и спасались, и от отца к сыну передаем столь дорого стоивший нам опыт. И потому‑то у наших денежных ящиков двойное дно. До первого рука визиря добирается, и он его очищает, но под первым всегда остается малая толика для нас и наших детей, на спасение души, на помощь родным и друзьям, попавшим в беду.
И Соломон посмотрел на Давиля не своим комически опасливым и грустным взглядом, а каким‑то новым – открытым и смелым.
Давиль рассмеялся от всего сердца.
– Ах, вот это прекрасно! Это мне нравится! А визирьто похвалялся своей хитростью и ловкостью.
Соломон перебил его тихим голосом, словно желая, чтобы и консул сбавил тон:
– Нет, не могу сказать, что это не так. Да, это все умные и ловкие господа. Только, знаете, как бывает: господа‑то мудры, сильны, как драконы, наши господа, но они воюют, соперничают, тратят силы. Знаете, как у нас говорят: власть, что порывистый ветер, – сносит все, рвет и ослабевает. А мы живем в мире, работаем и приобретаем. Потому и деньги у нас всегда водятся.
– Ах, это очень, очень хорошо, – твердил Давиль, кивая головой, смеясь и одобрительно кивая Соломону.
Но именно из‑за этого смеха еврей вдруг остановился и пристально посмотрел на консула прежним озабоченным и боязливым взглядом. Испугался, не переступил ли он границы, не сказал ли чего лишнего. Он сам понимал, что говорит не то, но что следовало бы сказать, хорошенько не знал. Что‑то заставило его высказаться, пожаловаться, похвастаться, разъяснить, словно он получил единственную в своем роде возможность, всего несколько драгоценных минут для выполнения важного и срочного поручения. Когда он вышел из лабаза, взобрался на крутую гору, на которую никогда еще не поднимался, и уселся в этой светлой комнате, среди всей этой непривычной для него красоты и чистоты, ему показалось необыкновенно значительным и важным, что он может беседовать с этим чужестранцем, который через несколько дней покинет их город, и разговаривать так, как, быть может, он никогда больше не сумеет и не посмеет ни с кем говорить.
Позабыв о первоначальной застенчивости и мучительной неловкости, он испытывал все более настоятельную потребность рассказать иностранному консулу еще что‑то о себе и о своих, спешно и доверительно, об этой травницкой дыре, о сыром лабазе, где живется так трудно, где не имеют понятия о чести и справедливости, где нет красоты и порядка, не существует суда и свидетелей, передать как наказ, он и сам не знал кому, но туда, куда возвращался консул, в некий упорядоченный и просвещенный мир. Хоть раз иметь возможность говорить без лукавства и предосторожности, говорить о вещах не только не связанных с заработком и сбережениями, с ежедневными расчетами и торгашеством, но имеющими противоположное назначение, – о подарках и щедрости, о щепетильной и великодушной гордости и искренности.
Но как раз это сильное, внезапно нахлынувшее желание сообщить нечто обобщенное и важное о своем существовании и вековечных муках травницких Атиясов и мешало ему найти верный способ и необходимые слова, которые позволили бы кратко, но достойно выразить все, что душило его и от чего кровь приливала к голове. И потому он говорил не о том, что переполняло его и просилось наружу – о их способности к борьбе, о скрытой силе и достоинстве, – а заикаясь произносил несвязные слова:
– Вот… так и держимся, так и живем и не жалеем… для друзей, за справедливость и доброту, которую нам выказали. Потому что мы… потому что и мы…
Тут голос его оборвался и глаза внезапно наполнились слезами. Он поднялся в смущении. Встал и Давиль, растроганный столь деликатным проявлением дружеского чувства, и протянул ему руку. Соломон живо схватил его руку непривычным и неловким движением, бормоча еще какието слова и прося консула не забывать их там, замолвить за них словечко, где сможет, и рассказать кому следует, как они тут живут, как мучаются и муками откупаются. Эти неясные и бессвязные слова старика перемешивались с изъявлениями благодарности Давиля.
Никогда мы не узнаем, что именно душило Соломона Атияса в это мгновение, что вызывало слезы на его глазах и дрожь во всем теле. Если бы он умел излагать свои мысли, он сказал бы приблизительно следующее:
«Господин консул, вы прожили среди нас больше семи лет и за это время проявили к нам, евреям, такое внимание, какого мы никогда не видели ни от турок, ни от чужестранцев. Вы приглашаете нас к себе, не делая различия между нами и другими. Быть может, вы и сами не понимаете, что означала для нас ваша доброта. Теперь вы нас покидаете. Ваш император принужден был отступить перед более сильным врагом. В вашей стране происходят тяжелые события и крупные перемены. Но страна ваша благородна и могущественна, и все может повернуться к лучшему. Вы найдете себе применение на родине. Жалеть надо нас, остающихся здесь, кучку травницких евреев‑сефардов, две трети из которых Атиясы, – жалеть потому, что мы теряем вас, ибо вы для нас были проблеском света. Вы видели, как мы живем, и были к нам так добры, как только может быть добр человек по отношению к другому. От того же, кто делает добро, каждый ожидает еще большего. А потому мы решились просить вас быть нашим заступником на Западе, откуда и мы пришли и где должны знать, что с нами сталось. Если бы мы убедились, что там нас знают и понимают, что мы не те, какими кажемся, и не судили бы о нас по нашей жизни, нам, думается мне, легче было бы все переносить.
Более трехсот лет назад страшный, безумный и братоубийственный вихрь, смысл которого нам не ясен и по сей день, поднял нас с нашей родной земли, прекрасной Андалузии, разбросал по белу свету и превратил в нищих, которым не помогает и золото. Мы вот попали на Восток, а жизнь на Востоке не легка и не благословенна, и чем дальше человек идет, приближаясь к месту солнечного восхода, тем все хуже ему становится, ибо земли там девственные, трудные, а люди связаны с землей. И горе наше в том, что мы не смогли всем сердцем полюбить эту страну, перед которой в долгу за то, что она приняла и приютила нас, и не сумели возненавидеть ту страну, которая столь несправедливо изгнала нас, как недостойных сынов. И не знаю, что тяжелее – то ли, что мы находимся здесь, или то, что нас нет там. Конечно, где бы мы ни жили за пределами Испании, мы страдали бы все равно, имея две отчизны, но здесь мы слишком придавлены и унижены. Знаю, что мы давно изменились и уже не помним, какими были, только помним, что были другими. Давно мы тронулись с места, и, передвигаясь с большими трудностями, на горе, попали сюда, и тут поселились, а потому мы даже не тень того, кем были. Как с плода, передаваемого из рук в руки, стирается пыльца, так и человек прежде всего теряет самое лучшее в себе. Вот почему мы стали такими. Но вы нас знаете, нас и нашу жизнь, если только можно назвать это жизнью. Живем мы среди турок и райи, несчастной райи и грозных турок. Полностью отрезанные от родных и близких, мы стараемся, однако, сохранить все испанское – и песни, и кушанья, и обычаи, – но чувствуем, как все это меняется, искажается и забывается. Мы помним язык нашей родины, тот, что унесли с собой три столетия тому назад, на котором и там уже больше не говорят, а смешно коверкаем язык райи, с которой вместе страдаем, и язык турок, господствующих над нами. Так что, может быть, недалек тот день, когда мы сумеем правильно и по‑человечески выражаться только в молитве, когда, по совести говоря, слова и не нужны. Изолированные и малочисленные, мы заключаем браки между собой и замечаем, что кровь наша становится жиже и бледнее. Мы унижаемся и склоняемся перед каждым, бедствуем и все же выкручиваемся, – как говорится, на льду костер раскладываем, работаем, зарабатываем, копим, и не только для себя и наших детей, но и для всех, кто сильнее и наглее нас и кто бьет нас и по лицу и по карману. Так мы сохранили свою веру, из‑за которой вынуждены были покинуть нашу прекрасную страну, зато потеряли почти все остальное. На счастье, но и на муку нашу, нас не оставляет и преследует образ нашей дорогой родины, такой, какой она была, когда прогнала нас, словно мачеха, как никогда не угасает желание попасть в лучший мир, где царят порядок и человечность, где можно идти прямо, смотреть спокойно и говорить открыто. Мы не можем освободиться от этого желания, так же как и от чувства, что принадлежим к тому миру, несмотря ни на что, хотя, как несчастные изгнанники, живем в мире, совсем на тот непохожем.
Вот мы и хотим, чтобы об этом знали там. Чтобы наши имена не были забыты в том светлом и лучшем мире, который постоянно окутывается мраком и рушится, постоянно перемещается и меняет название, но никогда не гибнет и всегда где‑то и для кого‑то существует, чтобы этот мир знал, что он живет у нас в душе, что мы и здесь по‑своему служим ему, чувствуя себя слитыми с ним, хоть и навсегда и безнадежно оторванными.
И это не тщеславие, не пустое желание, это действительная потребность и искренняя просьба».
Вот что приблизительно сказал бы Соломон Атияс в час, когда французский консул готовился навсегда покинуть Травник, передавая ему для поездки с трудом накопленные дукаты. Это или что‑нибудь в таком роде. Однако все это не было вполне и отчетливо осознано Атиясом и еще менее подготовлено для высказывания, а таилось в нем как нечто живое и значительное, но невысказанное, невыраженное. Да и кому в жизни удается выразить свои лучшие чувства и сокровенные желания? Никому, почти никому. Тем более не мог их выразить травницкий торговец кожами, испанский еврей, не умеющий как следует объясняться ни на одном языке; но если б даже он знал их все, он не извлек бы из этого никакой пользы, потому что ему еще в колыбели запрещали громко плакать, и тем паче в жизни не разрешали говорить свободно и открыто. Вот почему трудно было уловить смысл того, что он хотел сказать, и почему, расставаясь с французским консулом, он заикался и дрожал.
Если создавать и приводить в порядок хозяйство трудно и требует времени, как подъем в гору, то ликвидация учреждения или дома идет быстро и легко, как спуск под гору.
Давилю прислали ответ из Парижа гораздо скорее, чем можно было ждать. Он получил трехмесячный отпуск и разрешение выехать с семьей немедленно, передав управление консульством Давне. Вопрос о ликвидации генерального консульства в Травнике будет решен по приезде Давиля в Париж.
Давиль попросил аудиенции у визиря, чтобы сообщить ему о своем отъезде.
У Али‑паши был вид больного человека. Держался он с Давилем необыкновенно любезно. Очевидно, ему было уже известно о ликвидации консульства. Давиль подарил визирю охотничье ружье, а тот ему – плащ на меху; это означало, что визирь считает отъезд Давиля окончательным. Они простились как два человека, по горло занятые своими заботами, которым нечего сказать друг Другу.
В тот же день Давиль послал фон Пауличу в подарок ружье, ценный штуцер немецкой работы, и несколько бутылок ликера Martinique. В пространном письме он сообщал ему, что на днях покидает с семьей Травник, отправляясь «в длительный отпуск, который, бог даст, превратится в постоянный». Давиль просил дать ему визы и рекомендательные письма для австрийских пограничных властей и для коменданта карантина в Костайнице.
«Мне хотелось бы, – писал далее Давиль, – чтобы договор, который сейчас заключается в Париже,[79] обеспечил народам мир, долгий и разумный, каким был Вестфальский, чтобы он гарантировал долголетний отдых нынешнему поколению. Надеюсь, что наша большая европейская семья, примирясь и объединившись, не будет больше являть миру печальный пример раздора и несогласия. Надеюсь на это и хочу этого. Вам известно, что я придерживался этих принципов и до последней войны, и во время нее, придерживаюсь их и сейчас более чем когда‑либо».
«Где бы я ни был, – писал Давиль, – куда бы ни забросила меня судьба, никогда не забуду, что в варварской стране, в которой мне довелось жить, я встретил самого просвещенного и самого любезного человека в Европе».
Закончив так письмо, он пришел к решению уехать, не прощаясь с фон Пауличем. Он чувствовал, что из всех предстоящих трудностей самой большой было бы увидеть победоносное выражение на спокойном лице подполковника.
Извещая дворцовую канцелярию о намеченной ликвидации французского генерального консульства в Травнике, фон Паулич предложил немедленно упразднить и австрийское генеральное консульство. Нужда в нем отпадает не только потому, что французы не будут действовать в этих краях, но и по той причине, что, судя по всему, в Боснии начнутся волнения и открытая борьба между визирем и бегами. Все силы и все внимание уйдут на эту борьбу, а потому никакие выступления против австрийской границы в ближайшее время угрожать не будут. А о боснийских неурядицах Вена сможет быть прекрасно осведомлена через монахов или специальных агентов.
К своему предложению фон Паулич присоединил копию письма Давиля. В том месте, где Давиль так лестно о нем отзывался, консул приписал: «Я и раньше неоднократно имел случай отмечать бурное воображение господина Давиля и его склонность к преувеличениям».
Всю вторую половину летнего дня Давиль провел с Давной, приводя в порядок бумаги и давая ему указания.
Давна был мрачен, как всегда, на скулах у него играли желваки. Сына его решено было отправить на службу в посольство в Стамбул. Давиль обещал заняться в министерстве этим делом, затянувшимся вследствие столь значительных перемен во Франции. Всецело занятый мыслями о сыне, красивом и умном молодом человеке двадцати двух лет, Давна уверял, что завершит ликвидацию консульства наилучшим образом и вывезет все до последнего пера и клочка бумаги, даже под угрозой смерти.
Не закончив всего днем, они продолжали работу и после ужина. Давна ушел только около десяти часов.
Оставшись один, Давиль оглядел полупустую комнату, освещенную лишь одной свечой и тонувшую во мраке. Занавеси с окон были сняты. На белых стенах светлыми пятнами выделялись те места, где до вчерашнего дня висели картины. В открытое окно доносился шум реки. На обеих турецких башнях пробили часы – сперва на ближней, а потом, словно отклик, на дальней, в нижней части базара…
Консул был утомлен, но возбуждение, как некая сила, поддерживало в нем бодрость, и он продолжал приводить в порядок свои личные дела.
В картонной папке, перевязанной зеленой ленточкой, лежала рукопись эпоса об Александре Великом. Из двадцати четырех задуманных песен было написано семнадцать, да и те оставались незаконченными. Раньше, описывая походы Александра, Давиль постоянно видел перед собой «генерала», но теперь, вот уже больше года, с тех пор как он пережил как личную судьбу падение живого завоевателя, ему уже трудно было писать о возвышении и падении давно умершего героя своего эпоса. Перед ним лежало начатое произведение, которое и логически и исторически представлялось теперь абсурдным: Наполеон прошел огромную дугу своего восхождения и падения и снова очутился на земле, а Александр еще витал где‑то, покоряя «сирийские ущелья» около Исоса.
Давиль часто испытывал мучительное желание продолжить свое произведение, но каждый раз ясно чувствовал, что вдохновение его иссякает при приближении к реальным событиям.
Тут же хранится и отрывок из трагедии о Селиме III, начатой в прошлом году после отъезда Ибрагим‑паши и основанной на долгих разговорах с визирем о просвещенном и несчастном султане. Тут были и все поздравления и послания в стихах, написанные Давилем по поводу торжеств и юбилеев разных лиц и режимов. Жалкие стихи, посвященные неудавшимся событиям или личностям, которые сегодня значили меньше, чем покойники.
И, наконец, пачки счетов и личных писем, перевязанные веревочкой, пожелтевшие и обтрепанные по краям. Стоило развязать пакет, как бумаги рассыпались в прах.
Некоторые были написаны более двадцати лет назад. Отдельные письма Давиль узнал с первого взгляда. Вот правильный и твердый почерк одного из его лучших друзей, Жана Вильнева, который в прошлом году скоропостижно скончался на пароходе по пути в Неаполь. Письмо написано в 1808 году в ответ на какое‑то озабоченное послание Давиля.
«…Поверьте, мой дорогой, что ваши заботы и черные мысли не имеют под собой никакой почвы. И теперь меньше чем когда‑либо. Великий и исключительный человек, ныне управляющий судьбами мира, создает основы лучшего и постоянного порядка на грядущие времена. А потому мы можем вполне ему довериться. Он – лучшая гарантия счастливого будущего не только каждого из нас, но и наших детей и внуков. Итак, будьте спокойны, дорогой друг, как спокоен я, а мое спокойствие зиждется на ясном сознании вышеизложенного…»
Давиль поднял голову и посмотрел в открытое окно, в которое влетали ночные бабочки, привлеченные светом. Из соседнего квартала доносилась песня, сначала слабо, а потом все громче и громче. Это Муса Певец возвращался домой. Он совсем охрип, слабый голос его то и дело обрывался, но пьянство еще не окончательно доконало его, он еще жил, а в нем то, что фон Миттерер некогда назвал «Urjammer». Вот Муса завернул за угол своего квартала, голос его доносился все слабее и слабее, все с большими перерывами, как голос утопающего человека, то появляющегося на поверхности воды, чтобы еще раз вскрикнуть, то вновь еще глубже погружающегося в воду.
Наконец Певец зашел, пошатываясь, к себе во двор. Больше его не было слышно. Вновь наступила тишина. Ночью и шум реки не нарушал ее, а делал лишь более полной и однообразной.
Так тонет все. Так потонул и «генерал», и столько великих людей и крупных движений до него!
Целиком отдавшись глубокой тишине ночи, Давиль сидел с минуту, скрестив руки и опустив голову. Он был взволнован и озабочен, но не чувствовал страха, не страдал от одиночества. Впереди была полная неизвестность, его ждали трудности, и тем не менее ему казалось, что впервые с тех пор, как он в Травнике, положение прояснилось и перед ним приоткрылся кусок пути.
С того февральского дня, больше семи лет назад, когда после первого дивана у Хусрефа Мехмед‑паши он, взволнованный и униженный, вернулся в комнату Баруха в нижнем этаже его дома и опустился на жесткую скамью, все дела и усилия, связанные с Боснией и турками, пригибали его к земле, опутывали и ослабляли. С каждым годом он все больше впитывал в себя «яд Востока», туманящий взгляд и подтачивающий волю, которым с самого начала стала опаивать его эта страна. Ни близость французских войск в Далмации, ни блеск славных побед не в силах были что‑то изменить. А теперь, когда после крушения и поражения он готовился все покинуть и двинуться в неизвестность, у него появились энергия и воля, которых он не знал за последние семь лет. Забот и потребностей было больше чем когда‑либо, но, к его удивлению, они не обескураживали его, а, наоборот, заостряли мысль и расширяли горизонты, не возникали словно из засады, как горе, проклятье, а сливались с самой жизнью.
Слышно было, как в соседней комнате что‑то шуршало и скреблось, словно мышь в стене. Это его жена, неутомимая и подтянутая, как всегда, собирала и упаковывала последние вещи. Рядом спали его дети. Скоро они подрастут (а он сделает все, чтобы они росли спокойно и счастливо) и отправятся на поиски пути, которого он не сумел найти, и если даже они его не найдут, то, уж во всяком случае, будут искать с большей настойчивостью и достоинством, чем он. Теперь они спят, но и во сне растут. Да, и в этом доме все живет и все в движении, как и в окружающем мире, где открываются новые горизонты и зреют новые возможности. Как бы давно покинув Травник, Давиль не думал больше ни о Боснии, ни о том, что она ему дала и что отняла. Чувствовал только, как к нему откуда‑то притекают сила, терпение и решимость спасти себя и семью. Он продолжал приводить в порядок пожелтевшие бумаги, рвать старые и ненужные, оставляя и складывая то, что может еще пригодиться в дальнейшем, в новых условиях во Франции.
Машинальную работу сопровождала, как навязчивая мелодия, неопределенная, но настойчивая мысль: должен же где‑то быть этот «настоящий путь», на поиски которого он потратил всю свою жизнь; когда‑нибудь человек найдет этот путь и укажет всем. Он сам не знал – как, когда и где, но его обязательно найдут либо его дети, либо его внуки, либо его более далекие потомки, Эта неслышная внутренняя мелодия облегчала ему работу.
Эпилог
Вот уже третья неделя, как погода установилась. По заведенному обычаю, беги стали собираться на Софе у Лутвиной кофейни. Однако разговаривают сдержанно и угрюмо. По всей стране люди молчаливо готовились к отпору и восстанию против безумного правления Али‑паши, ставшего невыносимым. Дело это было давно уже решено и зрело само собой. Правление Али‑паши только ускорило это созревание.
Последняя пятница мая 1814 года. Все беги в сборе и ведут оживленный, серьезный разговор. Они знают о поражении Наполеона и его отречении и теперь только обмениваются сведениями, сопоставляя и дополняя их. Один из бегов, видевшийся утром с людьми из Конака, сообщает, что все уже готово для отъезда французского консула с семьей; достоверно известно также о скором отъезде австрийского консула, который только из‑за француза сидел в Травнике. Значит, можно свободно рассчитывать, что к осени в Травнике не останется ни консулов, ни консульств, ни всего того, что они с собой привезли и ввели.
Присутствующие выслушивают это как весть о победе. Хотя за эти годы беги несколько попривыкли к консулам, все же они довольны, что избавятся от чужестранцев с их особым, необычным укладом жизни, с их дерзким вмешательством в боснийские дела и события. Беги обсуждают вопрос о том, кто теперь будет владельцем «Дубровницкой гостиницы», где сейчас французское консульство, и что станется с большим домом Хафизадичей, когда австрийский консул покинет Травник. Все говорят громко, чтобы и Хамди‑бег Тескереджич, сидящий на своем месте, мог слышать, о чем идет речь. Он постарел, одряхлел и скособочился, как ветхое здание. Ему изменяет слух. Он с трудом поднимает веки, еще более отяжелевшие, и принужден закидывать голову, если хочет кого‑нибудь рассмотреть, губы у него посинели и при разговоре слипаются. Старик поднимает голову и спрашивает последнего из говоривших:
– А когда приехали эти самые… консулы?
Стали переглядываться и вспоминать. Одни отвечают, что прошло шесть лет, по мнению других – больше. После недолгих разъяснений и вычислений все сходятся на том, что первый консул прибыл свыше семи лет тому назад за три дня до рамазана.
– Семь лет, – произносит Хамди‑бег задумчиво, растягивая слова, – семь лет! А помните, сколько волнений и шума было тогда из‑за этих консулов и этого… этого Бонапарта? И тут Бонапарт, и там Бонапарт. Это ему требуется, того он не хочет. Мир ему тесен; силе его нет границ, и нет ему подобного. А наши‑то неверные подняли голову, словно пустой колос. Одни держатся за подол французского консула, другие – австрийского, третьи ожидают московского. Райя совсем сдурела и взбесилась. Ну что ж, было да сплыло. Поднялись императоры и победили Бонапарта. Травник очистится от консулов. Память о них удержится на какое‑то время. Дети будут скакать верхом на палочках, играя в «консулов» и «телохранителей», но и они забудут о них, словно их и не было. И все опять по воле божьей пойдет как шло спокон веков.
Хамди‑бег остановился, задохнувшись, все молчали в ожидании, не скажет ли старик еще что‑нибудь, и курили, наслаждаясь прекрасной, победной тишиной.
Белград, апрель 1942 г.
О романах Иво Андрича
В третий том настоящего издания вошли исторические романы Иво Андрича «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», принесшие писателю мировую славу. В 1961 году за роман «Мост на Дрине» Иво Андричу была присуждена Нобелевская премия. Сейчас этот роман пережил 93 издания в разных странах Европы и Азии и переведен на три десятка языков. «Травницкая хроника» насчитывает 54 издания в переводах более чем на двадцать языков.
Во многих критических работах, рассматривающих романы И. Андрича, подчеркивается их связь с эпическими романами Л. Толстого. Например, норвежский поэт и критик Рангвалд Скреде писал: «Андрич заставляет вспомнить о великих славянских мастерах слова, прежде всего о Толстом. Андрича сближает с русским писателем умение вести повествование уравновешенно и просто, в хронологической последовательности, без стилистических ухищрений и эффектов, находя точные детали, которые складываются в величественную картину истории народа в определенную эпоху. И как Толстой, соединяющий в себе понимание людей и жизненную мудрость с основательным знанием истории, Андрич рассказывает не об отдельных людях, но о целом народе, о жителях Боснии, а в широком смысле – обо всех народах Балкан». «После „Войны и мира“ Толстого едва ли мы еще найдем такое мастерство в показе человеческой судьбы», – говорилось в норвежской газете «Норддойтше Рундшау» после присуждения Андричу Нобелевской премии.
Творчество Андрича, и прежде всего его романы, говорится в работе академика Миклоша Саболчи (ВНР), противостоит тенденции европейского искусства XX века, внушающей пессимизм, с безнадежностью констатирующей нарушение коммуникабельности между людьми. «Романы И. Андрича, напротив, несут мысль о могуществе слова, способного преображать людей, жизнь, судьбу человечества…Разрушительному действию мрачных сил варварства Андрич противопоставляет историю и дела людей».
«Главные книги» писателя были созданы в годы второй мировой войны. Эти годы Андрич провел в Белграде, отвергнув всякую возможность сотрудничества с профашистскими властями. Понимая, чем ему может это грозить, в 1942 году в ответ на предложение дать в печать какое‑либо из его художественных произведений он писал: «…в нынешних обстоятельствах я не хочу и не могу публиковать ни новых своих произведений, ни старых, ранее уже публиковавшихся». Вместе с тем это были годы напряженного и продуктивного творческого труда. В течение трех лет он заканчивает один за другим три романа – «Травницкая хроника» (1942), «Мост на Дрине» (1943), «Барышня» (1944). Все три книги опубликованы в 1945 году, среди первых книг, начавших выходить в освобожденной от фашистской оккупации Югославии.
Исторические романы, новый для Андрича жанр, стали поворотным пунктом в решении им темы прошлого. Но сам интерес к истории не был новым, он возник у писателя очень рано и сопутствовал всему его творчеству. Еще в 1918 году, в рецензии на пьесу С. Чоровича «Как вихрь», писатель высказал прозорливое суждение о больших возможностях, которые заключает в себе тема прошлого Боснии. Андрич на протяжении многих лет глубоко изучал прошлое Боснии. Историк по образованию, писатель и в литературе высоко ставил значение исторического факта и документа. В его архиве имеются ссылки на десятки прочитанных трудов по истории, прежде всего по истории Боснии, Черногории, Сербии, Хорватии, по истории Османской империи, по истории ислама, на специальные работы, например о дорогах и средствах сообщения на Балканах, и другие исторические источники. Там же хранятся целые собрания произведений народного творчества – пословицы, поговорки, песни, предания. Его записные книжки содержат обширные выписки из различных источников. Об одной из таких книжек, насчитывающей около пятисот страниц, он писал: «…это мой амбар, чердак, склад, подвал, в котором хранится в порядке и без порядка все, что я собрал и накопил в течение восьми лет из разных книг и газет заодно со многими собственными мыслями и наблюдениями».
Работа М. Шамича «Исторические источники „Травницкой хроники“ (Сараево, 1962) дает возможность проследить историю создания этого произведения.
Замысел и первые заметки к роману «Травницкая хроника» относятся к 1924 году. Андрич познакомился тогда с книгой М. Гавриловича «Материалы парижских архивов» (Белград, 1904), в которой приводились отрывки из служебной переписки французского консула в Травнике Пьера Давида. В 1927 году, находясь на дипломатической службе в Париже, Андрич получил возможность изучить в подлинниках донесения и письма будущего героя своего романа (в романе он носит имя Жана Давиля). Десятью годами позже, в 1937 году в Вене он нашел в архивах аналогичные материалы, посылавшиеся из Травника австрийскими консулами Паулем фон Миттесером (в романе Йозеф фон Миттерер) и Якобом фон Пауличем (в романе фон Паулич). Из этих документов, из воспоминаний сына Пьера Давида, из книги секретаря французского консульства в Травнике Шометта де Фоссе «Путешествие в Боснию.
1807–1808 гг.» (Париж, 1822) Андрич почерпнул многое не только для характеристики иностранных консулов в Травнике, но и для воссоздания обстановки далекой эпохи. Обширная литература, и в частности летописи францисканских монастырей, была привлечена писателем при написании эпизодов, связанных с католическим духовенством.
Используя документальные данные, Андрич создает и образы вымышленных персонажей. Такими являются, например, переводчики консульств Колонья, Ротта, о которых известны только имя и род занятий. Такова, например, супруга австрийского консула, образ которой создан на основании беглой фразы из письма Пьера Давида: «У фон Миттесера снова неприятности с женой».
Помимо архивных документов и литературных источников, Андрич широко использовал в романах фольклорный материал.
В романе «Мост на Дрине» писатель дал срез народной судьбы на протяжении большого отрезка времени, показал народную жизнь в ее широком разливе, поэтому так естественно было его обращение к фольклору, в котором столь ярко запечатлелся духовный склад боснийца. В романе есть целые главы, построенные на народных преданиях – например, глава о непокорной красавице Фате. Не пренебрегая поэтической истиной предания и ее воздействием на внутренний мир человека прошлого, Андрич постоянно открывает в нем реальную, историческую истину. Такова легенда о бунтаре Радисаве, решившем в одиночку разрушить мост и принявшем мученическую смерть. Существующее во многих вариантах сказание о близнецах, замурованных в строящийся мост, вошло в роман как эпизод о деревенской дурочке, которая безуспешно ищет своих мертворожденных детей.
Замысел романа «Мост на Дрине» можно проследить, сопоставив его с некоторыми другими произведениями обширного творческого наследия писателя. Особенности исторической судьбы Боснии, насильственно остановленной в своем развитии, в межвоенные годы были рассмотрены Андричем прежде всего в научных, литературно‑критических трудах, в эссеистике. В докторской диссертации «Развитие духовной жизни в Боснии в условиях турецкого владычества» (1924), а позже в серии статей о Негоше и других статьях Андрич пытался определить, какие последствия имело чужеземное иго для духовной жизни народа, и поставил на первое место среди них возникновение в Боснии особой, основанной на трагическом мироощущении этики порабощенного народа, непреложной чертой которого является сопротивление неизмеримо превосходящему в силах врагу, сопротивление непрекращающееся и непримиримое, хотя и без надежды на победу. Воплощением этого стоического сопротивления насилию было для Андрича творчество и личность великого черногорского поэта Петра Негоша (1813–1851). Поэзия Негоша прочитана Андричем как «отчаянная борьба» («Негош, трагический герой Косовской идеи», 1935). В статьях, написанных в связи со столетием «Горного венца» (1947) и столетием смерти (1951) Негоша, Андрич вновь выверил и осмыслил поэтические, философско‑нравственные решения великого поэта и нашел, что они прошли проверку в современности: «В тяжелейшие для всего народа и для каждого человека в отдельности 1941–1945 годы, когда следовало каждую веху подтвердить, каждый экзамен сдать заново, проверить все меры и расчеты, мудрость многих оказалась легковесной и немощной, а чувства – слабыми и обманчивыми, Негош же тогда поднялся еще выше, и мы ощущали его в себе сильнее, чем когда‑либо прежде. Раскрылся „Горный венец“ на позабытых страницах, и нам открылись новые строки в новом значении, которые распахнули горизонты и бросили яркий сноп света на судьбу народа и призвание человека». Время борьбы с фашизмом, новым видом «чумы человечьей», о которой когда‑то писал Негош, многому научило его соотечественников, говорит Андрич. Мы увидели, пишет он, что «человечность есть высший закон в отношениях одного человека к другому; точно так же увидели, что люди должны защищать человечность от нелюдей и что истинный смысл слов быть человеком означает быть бойцом. Увидели, что колебаться в этих делах – значит предавать и человека и человечность, а мириться с этим – значит служить нелюдям, что борьба есть долг каждого человека и закон жизни». Уроки великого предшественника Андрича, подкрепленные опытом борьбы с фашизмом, ощущаются в романе «Мост на Дрине».
Эссеистика и рассказы межвоенных лет показывают, как расширяется мысль писателя об исторической судьбе народа и человека, как идет поиск средств художественного выражения этой мысли. Защиту от жизненного зла, от гибели и смерти Андрич видел в природе и великих творениях рук человеческих. В рассказе «Рзавские берега» (1924) высказывается мысль, что природа с ее постоянством – единственное, что противостоит тревожной изменчивости жизни и неизвестности человеческой участи: «С незапамятных времен текла жизнь холмов в здоровом однообразии, казалось, на их вечных склонах ничто не развивается и не погибает, настолько новое жито было похоже на прошлогоднее и умершие – на новорожденных». Тогда же, существенно дополняя эту мысль, в творчество писателя вошли образы‑символы человеческого труда, созидания, противостоящего разрушительному времени. В эссе «Мечта о городе» (1923), глядя на «мудрые» стены Дубровника, писатель впервые убежденно сказал: «Труд – единственное, что человек может противопоставить неизвестности своего удела». Высшим проявлением возможности человека утвердить себя во времени, создать нечто прекрасное и нужное всем становится для Андрича мост, «благое и прекрасное творение рук человеческих». После рассказа «Мост на Жепе» (1925) он написал эссе «Мосты» (1933), где мост назван самым важным, полезным, освященным высокой и благородной идеей созданием человека. Наконец, в романе «Мост на Дрине», соединив в себе многолетние размышления писателя о судьбе народа и человека, центральный образ‑символ утверждает способность народа устоять неред всеми испытаниями истории и способность человека подняться над превратностями и кратковечностью судьбы, если он трудится для общего блага и украшения земли.
Исключительно большое значение придавал Андрич работе над языком своих исторических повествований. В романах ощущается богатство живой народной речи. Писатель стремился к тому, чтобы язык его произведений был частью той действительности, о которой он писал. Об этом он говорил в заметках «Слово о словах» (1954): «Язык – это жизнь людей, сознательная и бессознательная, видимая и потаенная. Вне жизни существует лишь молчание смерти. Нет такого слова, которое не было бы связано с жизнью, как нет и растения без почвы, что его питает. Следовательно, нужно быть близким к людям и их жизни, слушать их речь, впитывать ее в себя, размышлять о ней, жить с нею, как брат с братом. И тогда мы сможем добиться того, что необходимо, то есть сказать людям на их и привычном им языке нашу и новую художественную правду».
В Советском Союзе исторические романы И. Андрича выходили неоднократно. Первое издание «Моста на Дрине» на русском языке осуществлено в 1956 году, «Травницкой хроники» – в 1958 году. С тех пор «Мост на Дрине» выдержал девять изданий, в том числе на эстонском, литовском, латышском, грузинском, молдавском языках, «Травницкая хроника» – три издания на русском языке.
Н. Яковлева.
Пояснительный словарь
Ага – господин, уважительное обращение к состоятельным людям.
Айян – старейшина, предводитель, чиновник городской управы.
Акшам – вечерняя, четвертая из пяти предписанных мусульманских молитв.
Антерия ‑род верхней длинной одежды, мужской и женской.
Байрам – мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.
Баклава – слоеный пирог с орехами, пропитанный сахарным сиропом.
Бег – турецкий землевладелец, господин.
Берат – грамота султана.
Бинекташ – специальный камень, с которого садятся на коня.
Бостанджи ‑баша – один из чинов гвардии султана или визиря.
Вакуф – земли, недвижимое имущество, принадлежащее мусульманскому духовенству; собственность, завещанная на благотворительные цели.
Вила – мифическое существо, лесная или горная фея.
Газда – уважительное обращение к богатым торговцам и ремесленникам, букв.: хозяин.
Девлет ‑мусафир – гость государства.
Демирлия – противень‑поднос.
Джезва – медный сосуд для варки кофе по‑турецки.
Джемадан – мужская одежда без рукавов, расшитая тесьмой.
Джубе – верхняя зимняя одежда.
Ифтар – вечерняя трапеза во время поста, совершаемая после захода солнца.
Ичоглан – придворный визиря.
Кабаница – верхняя одежда типа плаща.
Кадия – судья.
Каймакам – лицо, замещающее визиря во время его отсутствия.
Капиджи ‑баша – управляющий дворцом визиря.
Капудан ‑паша – адмирал в турецкой армии.
Кмет – подневольный крестьянин, работающий на землях бега.
Коло – южнославянский танец.
Кулук – трудовая повинность.
Конак – здесь: резиденция визиря, административное здание.
Маджария – венгерская золотая монета, употреблявшаяся и как женское украшение.
Мерхаба – мусульманское приветствие.
Минтан – род верхней одежды с длинными узкими рукавами.
Мубашир – посланец, чиновник.
Мудерис – учитель в медресе, мусульманском духовном училище.
Муктар – староста городского квартала.
Мулазим – начальник полиции.
Мутевелий – управляющий вакуфом.
Мутеселим – чиновник визиря.
Муфтий – мусульманский священник высокого ранга.
Мухурдар – хранитель государственной печати.
Окка – мера веса, равная 1283 г.
Опанки – крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Пашалык – область, находящаяся в подчинении одного паши.
Плета – мелкая австрийская монета.
Райя – презрительное наименование христианских подданных Турецкой империи.
Ракия – сливовая водка.
Рамазан – девятый месяц по мусульманскому календарю, месяц поста, обязывающего воздерживаться от пищи с восхода до захода солнца.
Реис – высший сан в мусульманской религии.
Салеп – сладкий горячий напиток, настоянный на ятрышнике.
Сердар – военачальник.
Серджада – коврик, на котором мусульмане совершают моление.
Сефарды – евреи, выходцы из Испании.
Силахдар – хранитель оружия.
Слава – праздник святого покровителя семьи у православных сербов.
Софта – ученик медресе.
Спахия – турецкий землевладелец.
Субаша – помощник паши.
Сура – глава Корана.
Табут – открытый гроб, в котором хоронят мусульман.
Тарих – дата, число, хроника.
Тамбура – струнный инструмент типа мандолины.
Тефтедар – министр финансов.
Тефтер ‑чехайя – хранитель архивов.
Улема – мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.
Урмашица – сладкий пирог с финиками.
Филджан – чашечка для черного кофе.
Фирман – указ султана.
Хаджи – мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.
Хазнадар – казначей, эконом.
Хафиз – человек, знающий наизусть Коран.
Хечим – врач.
Ходжа – мулла.
Цицвара – национальное боснийское блюдо из муки, масла и сыра.
Чаршия – торговый квартал города, базар; в переносном смысле – молва, суждения и мнения горожан.
Чевап – молотое мясо, жаренное в виде котлет на мангале и сильно сдобренное перцем.
Чехайя – заместитель визиря.
Чифчия – безземельный крестьянин, обрабатывающий землю помещика.
Чохадар – чиновник, ведающий гардеробом визиря.
Эфенди – господин, уважительное обращение к образованным людям.
Эмин – финансовый чиновник.
Ямак – рекрут в янычарских войсках.
Яция – пятая, ночная, молитва, совершаемая мусульманами через два часа после захода солнца.
[1] Бонапарт запросил у Порты в Стамбуле разрешение открыть консульство в Травнике… – 14 апреля 1806 г. министр иностранных дел Франции Талейран направил временному поверенному в делах в Стамбуле распоряжение запросить у Порты необходимые фирманы для учреждения в Боснии французского генерального консульства.
[2] …французская армия уже год стоит в Далмации, в Сербии не прекращаются восстания… – После ряда победоносных сражений с войсками третьей коалиции (Англия, Россия, Австрия и Неаполитанское королевство) Наполеон заставил Австрию просить мира. По условиям мирного договора, подписанного 26 декабря 1805 г. в Братиславе (по‑немецки – Прессбург; отсюда Прессбургский мир), к Франции отходил ряд австрийских владений, в том числе Далмация, полученная австрийцами по Кампоформийскому мирному договору (17 октября 1797 г.). 12 июня 1806 г. военным губернатором Далмации был назначен генерал Огюст Фредерик Луи Мармон.
В феврале 1804 г. в Сербии вспыхнуло антиосманское восстание, которое возглавил Карагеоргий (1768–1817). Повстанцы обратились за помощью к России, оказавшей им дипломатическую и материальную поддержку. После начала русско‑турецкой войны (1806–1812) русские войска неоднократно сражались плечом к плечу с сербскими повстанцами против общего врага. В составе оттоманской армии были и боснийские войска.
[3] Конечно, Травник – резиденция визиря… – Травник был резиденцией визирей Боснии, являвшейся турецкой провинцией, с 1699 до 1850 г. (с краткими перерывами). В 1850 г. резиденция боснийского визиря была перенесена в Сараево.
[4] С той самой поры, как турки ушли из Венгрии… – В XVII в. османские владения в Европе охватывали весь Балканский полуостров и юго‑восточную часть Венгрии, в которую входили и населенные сербами и хорватами Банат, Срем, Бачка, Славония. В 1683 г. турецкая армия предприняла поход в Центральную Европу, но была разбита под Веной соединенными австро‑польскими войсками под командованием польского короля Яна Собесского. Австрийские войска перешли в контрнаступление и дошли до Скопле, но удержать своих завоеваний не смогли. По Карловацкому миру (26 января 1699 г.) во власти Оттоманской империи остались земли южнее реки Савы, а также небольшая часть Срема и Банат. В войнах первой половины XVIII в. Австрия присоединила не только остатки Срема, но и Банат, Малую Валахию, часть Сербии и узкую полосу в Боснии южнее реки Савы. Однако по Белградскому миру (1 сентября 1739 г.) Австрия лишилась владений в Сербии и Боснии, покинула Малую Валахию. Во время всех этих войн и переделов мусульманское население уходило в османские владения, в том числе и в Боснию.
[5] Примерно в то же время в Травник прибыл новый визирь Хусреф Мехмед‑паша… – Хусреф Мехмед‑паша был назначен боснийским визирем 22 марта 1806 г. Он был одним из наиболее достойных учеников знаменитого турецкого флотоводца капудан‑паши Кучука Хусейна, горячим сторонником реформ Селима III, поклонником Наполеона. По некоторым сведениям, он читал и понимал по‑французски.
[6] …поступил на службу к великому капудан‑паше Кучуку Хусейну… – Главный адмирал Кучук Хусейн был ближайшим сподвижником Селима III, помогал ему при проведении реформ, добился прекращения пиратства, пригласил инструкторов из Франции и Швеции для строительства флота и береговых укреплений.
[7] Давиль… побывал с миссией в Германии, потом в Италии, – при Цизальпинской республике и Мальтийском ордене. – Так называемая Цизальпинская республика была создана Наполеоном по Камноформийскому миру и находилась в вассальных отношениях с Францией. Духовнорыцарский Мальтийский орден был основан в 1530 г. орденом госпитальеров на острове Мальта и принял на себя обязательство защищать Средиземное море и его побережье от турок и африканских пиратов. До конца XVIII в. был самостоятельным феодально‑теократическим государством. В 1798 г. Мальта была захвачена Наполеоном, а в 1800 г. – Англией, превратившей ее в свою колонию.
[8] Жизнеописание (лат.).
[9] …дары Селима III. – Султан Селим III (1761–1808) вступивший на престол в 1789 г., был образованным и умным правителем. Он предпринял ряд реформ, направленных на централизацию управления империей, укрепление ее финансов, реорганизацию армии по европейскому образцу, вызвавших резкое недовольство турецких феодалов и реакционного мусульманского духовенства. После заключения мира с Францией в 1802 г. французское влияние при дворе Селима III сильно возросло. Французские инструкторы руководили реорганизацией армии и флота, строительством укреплений и т. д.
[10] …восстание мамелюков вынудило Мехмед‑пашу бежать из Египта… – В июле 1798 г. французская армия во главе с Наполеоном вторглась в Египет, разгромила войска мамелюков, установила в стране жестокий оккупационный режим, вызвавший массовое антифранцузское движение. В 1801 г. англичане, поддерживавшие турок в борьбе с Наполеоном, сами оккупировали Египет. В 1805 г. командир албанского отряда, присланного султаном Селимом в свое время для борьбы с французскими оккупантами, поднял восстание в Каире и был провозглашен правителем Египта, после чего власть Турции фактически прекратилась.
[11] Когда английский флот прорвался через Дарданеллы и стал угрожать Стамбулу… – Англия, будучи союзницей России по антифранцузской коалиции, в феврале 1807 г. предприняла экспедицию в проливы. 19 февраля английская эскадра внезапно прошла Дарданелльский пролив, подавив при этом плохо стрелявшие малочисленные турецкие батареи и потопив пять из встретивших ее шести турецких судов. Угрожая начать бомбардировку города, англичане потребовали, чтобы Турция разорвала отношения с Францией, выслала французского посланника генерала Себастиани, прекратила военные действия против России, заключила союзный договор с Англией и передала в ее распоряжение форты в Дарданеллах. По совету Себастиани Селим III затягивал переговоры, одновременно спешно усиливая оборону проливов. Английская эскадра оказалась в ловушке и поспешно повернула назад, понеся значительные потери при обратном проходе через Дарданеллы.
[12] …когда в Стамбуле произошел майский переворот. – По турецким обычаям, армию во время войны возглавлял великий визирь и вместе с ним на театр военных действий отправлялось все правительство. Когда весной 1807 г. начались военные действия на Балканах, противники Селима III, воспользовавшись отсутствием его ближайших сподвижников, устроили заговор. 29 мая 1807 г. Селим III был свергнут и на престол возведен Мустафа IV, ставший послушным орудием в руках янычар и реакционного мусульманского духовенства, свирепо расправившихся со сторонниками реформ.
[13] …с приказом весной выступить с сильным войском против Сербии. – В связи с начавшейся в 1806 г. русско‑турецкой войной сербские повстанцы отказались от переговоров с султаном, которые они вели в 1805–1806 гг. о предоставлении Сербии автономии в рамках Оттоманской империи, и решили в союзе с Россией добиваться полной независимости. Все османские правители на Балканах, в том числе и боснийский визирь, получили приказы выступить против Сербии и подавить восстание.
[14] Конгресс в Эрфурте закончился. – Вторая встреча Наполеона с Александром I (первая состоялась в Тильзите с 25 июня но 7 июля 1807 г.) проходила в Эрфурте с 27 сентября по 14 октября 1808 г. по инициативе Наполеона, стремившегося возобновить франко‑русский союз, крайне необходимый ему для продолжения войны с Англией н нейтрализации Австрии, готовившейся к войне. Хотя на Эрфуртском конгрессе и было подписано тайное соглашение о союзе, Наполеону не удалось добиться решительного выступления России против Австрии в случае возникновения франко‑австрийской войны.
[15] …предпочел стать переводчиком «иллирийского» языка… – Иллирийским языком в конце XVIII – начале XIX в. часто называли язык южных славян. Это основывалось на представлениях о том, что они являются потомками древних иллиров, населявших Балканский полуостров в 1‑м тысячелетии до н. э.
[16] …если считать с Амьенского мира… – Война Франции со второй европейской коалицией (Англия, Россия, Австрия, Неаполитанское королевство и Турция), начавшаяся весной 1799 г., завершилась подписанием Амьенского мирного договора между Англией с одной стороны и Францией, Испанией и Голландией – с другой (27 марта 1802 г.).
[17] …после знаменитой победы Наполеона в Пруссии Давиль написал поэму «Битва при Иене»… – В битвах при Иене и Ауэрштедте, состоявшихся 14 октября 1806 г., были наголову разбиты войска Пруссии, входившей вместе с Англией, Россией и Швецией в четвертую антифранцузскую коалицию.
[18] …когда Сулейман‑паша Скоплянин пошел с войском на Черногорию и сжег Дробняк… – Походы турецких войск против Черногории были постоянным явлением вплоть до середины XIX в. Дробняк – область Черногории близ границы с Герцеговиной.
[19] Полуоборот направо! Налево! Марш! (нем.)
[20] Никола Буало (1636–1711) – французский поэт, известный теоретик классицизма.
[21] Жак Делиль (1738–1813) –французский поэт. В 1769 г. вышел в свет его перевод «Георгик» Вергилия, заслуживший одобрение Вольтера. Поэма «Сады» (1782) – первое большое оригинальное его сочинение. Поэзия Делиля отличалась виртуозностью стиха, рассудочностью и риторичностью.
[22] Что, ты думаешь, ищет Александр, опустошая мир,
Среди ужасов, грохота и войн?
Мучимый скукой, которую не может превозмочь,
Он боится остаться наедине с собой и стремится убежать от себя.
(Пятое послание)
[23] Что охраняет Христос, не могут взять готы (лат.).
[24] По одежде и манере держаться священника можно было принять за морлака‑граничара… – Морлаками в XVI–XVII вв. итальянцы называли жителей континентальной Далмации, входившей в состав Венецианской республики, которые обычно несли пограничную службу.
[25] До свидания, многоуважаемый господин! (лат.)
[26] Прапорщик (нем.)
[27] …целиком погрузился в служебную жизнь земунского карантина… – В Земуне, являвшемся крупным торговым городом на южной границе Австрийской империи, через который шла значительная торговля с Турцией, помимо военных учреждений, таможни и т. д., имелся карантин. В нем в обязательном порядке задерживали на 10–15 дней всех, кто прибывал из Турции, с целью предотвратить распространение в австрийских землях эпидемий, столь часто посещавших турецкие провинции в те времена.
[28] Госпожа фон Миттерер строит новый Шенбрунн… – Шенбрунн – императорский дворец в Вене.
[29] Людовик Яшик (фр.).
[30] Кто ищет своей гибели – пусть женится на левантинке (ит.).
[31] Более двухсот лет назад, во время великих войн… – Имеются в виду турецкие завоевания XVI–XVII вв., во время которых к Турции были присоединены южные провинции Венгрии, в том числе и Славония.
[32] Это извечная скорбь (нем.).
[33] Тайная дворцовая и государственная канцелярия (нем.).
[34] Начальник отделения (нем.).
[35] человека без семьи (нем.).
[36] Смещен Мехмед‑паша, смещен! Поставлен Сулейман‑паша, поставлен! (тур.)
[37] Во Врандук попа‑кадию! – Врандук – небольшая крепость к северу от Зеницы. Обозвать кадию попом значило обвинить его в открытой измене.
[38] Ибрагим Халими‑паша был… сторонником Селима III…– Новый боснийский визирь Ибрагим Халими (Хилми)‑паша прибыл в Травник 7 апреля 1808 г., где находился до середины 1813 г. Незадолго до зтого он занимал пост визиря, был сторонником союза Турции с Францией.
[39] …Наполеон, заключив мир с Россией, вызвал большое разочарование в Стамбуле. ..– Мир между Россией и Францией был заключен еще в 1807 г., во время первой встречи двух императоров в Тильзите, и был подтвержден на Эрфуртском конгрессе (1808 г.).
[40] …пришлось быть свидетелем вступления английского военного флота в Босфор. – См. примеч. 11.
[41] …о новом государственном перевороте в Стамбуле и трагической смерти бывшего султана Селима III. – После свержения Селима III сторонники реформ укрылись в Рущуке у приверженца Селина, рущукского паши Мустафы Байрактара, где ими была создана тайная политическая организация «Рущукские друзья». В июле 1808 г. Мустафа Байрактар с большим войском пришел в Стамбул, но ему не удалось освободить находившегося в заточении Селима III, который по приказу Мустафы IV был убит. Байрактар низложил султана Мустафу IV и возвел на престол его брата Махмуда – последнего отпрыска династии Османов. Байрактар, ставший великим визирем, и «Рущукские друзья» удержались у власти недолго: в ноябре вспыхнул новый янычарский мятеж, Махмуд И сохранил трон лишь благодаря тому, что приказал умертвить Мустафу.
[42] …три изображения – Гиппократа, святого Алоизия Гонзаги и неизвестного рыцаря в латах… – Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 гг. до н. э.) – знаменитый древнегреческий врач, один из основоположников античной медицины, оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие века. Алоизий Гонзага (XVI в.) – одни из представителей мантуанской княжеской династии, вступил в орден иезуитов, занимался вопросами теологии, после смерти был канонизирован, считался покровителем учащейся молодежи.
[43] В травах, словах и камнях (лат.).
[44] прозванный (лат.).
[45] Благодетельна, мягка, терпелива и всегда к услугам людей (лат.).
[46] Она производит лекарственные травы и всегда рождает для людей (лат.).
[47] Собрание лекарств (лат.).
[48] …богословские и философские учения от Абу‑Ханифы до Аль‑Газали. – Абу‑Ханифа (VIII в.) – основатель мусульманской юридической школы, составил систему законоведения. Абу‑Гамид Мухаммед Аль‑Газали (1058–1111) –крупнейший мусульманский теолог.
[49] Бодрый дух, умеренный отдых, диета (лат.).
[50] Комнату для музицирования (нем.).
[51]
Вся охваченная страстью,
В беспокойном сердце
Несу трепещущую душу (ит.).
[52] «Альманах муз» (нем.).
[53] …огромная военная машина империи снова пришла в движение, и прямо против Австрии… – После Прессбургского мира Австрия активно готовилась к войне. Неудачи Наполеона в Испании и Португалии показались австрийским политикам достаточным основанием для надежд на успех. Эти приготовления не ускользнули от Наполеона, который, к свою очередь, начал энергичную подготовку к войне с Австрией.
[54] Пятая коалиция против Наполеона… – В состав пятой коалиции, образованной в начале 1809 г., входили Англия, Австрия и некоторые германские государства.
[55] …французское сообщение о первой победе под Экмюлем… – Австрийцы начали военные действия 10 апреля 1809 г. вторжением в Баварию, но уже 19–23 апреля в сражениях при Тепгене, Абенсберге, Ландсгуте, Экмюлс и Регенсбурге потерпели поражения, французским войскам была открыта дорога на Вену.
[56] После обеда надо постоять (лат.).
[57] …слова, еще шесть веков тому назад написанные великим… Джалаледдином Руми… – Джалаледдин Руми (1207–1273) – крупнейший поэт‑мистик средневековой Персии, известный и почитаемый во всем мусульманском мире, «соловей созерцательной жизни».
[58] В один прекрасный день все устроится, в этом наша надежда (фр.).
[59] …прекрасно сохранившиеся латинские слова: «Marko Flavio… optimo…» – «Марк Флавий… лучший (муж)» – типичная надпись на римском надгробье.
[60] …остатки древнейшего храма бога Митры. – Культ Митры, бога дневного света и покровителя мирных отношений между людьми, возник в древней Персии и Индии; в эллинистическую эпоху был широко распространен в провинциях Римской империи, особенно при императоре Диоклетиане (IV в.).
[61] См. примечание 41.
[62] …началась битва при Ваграме. – В жестокой битве при Ваграме (деревне к северу от Вены) 5–6 июля 1809 г. Наполеон наголову разбил австрийские войска. После этой битвы военные действия были прекращены, и в Цнайле было заключено перемирие.
[63] В октябре 1809 года в Вене был заключен мир между Наполеоном и венским двором. – Венский (или Шенбруннский) мир был подписан 14 октября 1809 г. Наполеон отторгнул от Австрии обширные территории на юго‑западе (Словению, включая Триест, и Хорватию) которые вместе с Далмацией, Истрией, Дубровником, еще раньше оккупированными французами, были превращены в так называемые «иллирийские провинции»; губернатором их был назначен Мармон, получивший после битвы при Ваграме звание маршала. «Иллирийские провинции» просуществовали до 1814 г., после чего отошли к Австрии.
[64] Много грешил, но от веры не отрекся (лат.).
[65] Верую (лат.).
[66] Она сразу назвала его «Антиноем в мундире»… – Антиной (? – 130 гг. и. э.) – юноша родом из Клавдиополя в Вифинии, любимец римского императора Адриана, славившийся необыкновенной красотой. Изображения Антиноя часто встречались среди памятников античной пластики.
[67] Приветствую тебя, сына весны и бога войны (фр.).
[68] Будет заваруха (фр.).
[69] О моя жизнь! Пустые сны! О быстро летящие дни! Желания их забавляют, надежды обманывают. Такова неумолимая судьба людей! Планы, ошибки, страдания и смерть! (фр.).
[70] …как некогда справедливый завоеватель Кир. – Кир II Великий – древнеперсидский царь (VI в. до н. э.), основатель династии Ахеменидов, завоевал обширные территории.
[71] … Ибрагим‑паша встретился с Силиктаром Али‑пашой, своим преемником. – Новый боснийский визирь Али‑паша прибыл в Травник 17 мая 1813 г. Начало своего правления Али‑паша ознаменовал жестокими расправами.
[72] В конце мая поступили известия о победах Наполеона при Люцене и Бауцене. – Весной 1813 г. была создана шестая антифранцузская коалиция (Англия, Россия, Пруссия, Швеция, Испания и Португалия). Боевые действия развернулись в Саксонии. В начале кампании Наполеону удалось разбить войска союзников в битвах при Люцене (2 мая) и Бауцене (20–21 мая). Обе стороны понесли значительные потери, но ресурсы союзников были значительно больше, чем у Франции, что сказалось в ходе осенней кампании.
[73] …услышал… об исходе битвы под Лейпцигом, – После провала мирных переговоров, проходивших в Праге, и присоединения Австрии к коалиции военные действия возобновились в начале августа. Армия Наполеона была окружена на равнине под Лейпцигом, где 16–19 октября произошло сражение, получившее в истории название «битвы народов» (в нем участвовало свыше 500 000 человек). Французская армия потерпела сокрушительное поражение, потеряв около 58 000 человек убитыми.
[74] …Белград взят турками и последние следы восстания в Сербии стерты навсегда. – Русско‑турецкая война, во время которой Россия оказывала всестороннюю помощь сербским повстанцам, закончилась в мае 1812 г. Русская армия под командованием М. И. Кутузова разгромила турецкие войска, и в мае 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, согласно которому Турция обязывалась объявить повстанцам полную амнистию и предоставить Сербии автономию в вопросе внутреннего управления, сбора налогов и др. Однако, воспользовавшись занятостью России войной с Наполеоном, Турция нарушила Бухарестский мир и направила в Сербию три армии – со стороны Видина, Ниша и из Боснии, подошедшие к границам Сербии в конце июля 1813 г. Несмотря на героическое сопротивление повстанцев, к концу сентября вся Сербия была занята турецкими войсками, учинившими свирепую расправу: тысячи мужчин были убиты, а женщины и дети проданы в рабство. В течение трех дней в Стамбуле палили из пушек в честь победы над повстанцами.
[75] …Карагеоргий перебежал в Австрию. – Накануне занятия Белграда турецкими войсками, когда сопротивление уже было невозможно, вождь повстанцев Карагеоргий со своей семьей и ближайшими сподвижниками перешел в Земун, где он сразу же был интернирован австрийскими властями. Лишь в 1811 г. после неоднократных требований России ему было разрешено выехать из Австрии. Он поселился в Бессарабии, где находилось немало участников сербского восстания.
[76] …выяснилось, что победа была сомнительной… – Жестокие расправы и грабежи, чинимые турками в покоренной Сербии, уже в 1811 г. вызвали недовольство, увеличилось число гайдуков, то там, то тут вспыхивали бунты, свирепо подавляемые турками. В апреле 1815 г. началось новое восстание, в результате которого Сербии при поддержке России, потребовавшей от Турции выполнения Бухарестского договора, была предоставлена внутренняя автономия, ставшая первым шагом к достижению сербским народом национальной независимости.
[77] Сенат принял новую конституцию, образовано новое правительство во главе с Талейраном, князем Беневентским. – Талейран, еще во время Эрфуртского конгресса изменивший Наполеону и оказывавший тайные услуги Александру I, сыграл важную роль в подготовке к реставрации династии Бурбонов. После занятия Парижа войсками союзников он сумел убедить Александра, что нельзя ни заключать договора с Наполеоном, ни передавать правление императрице Марии Луизе как регентше, а что следует восстановить династию Бурбонов. Он легко убедил Сенат в необходимости принять декрет об образовании временного правительства, которое должно будет выработать новую конституцию, и декрет о низложении Наполеона. На Венском конгрессе 1815 г., на котором европейские монархи решали судьбы мира, Талейран представлял Францию как министр иностранных дел.
[78] О Талейран, ты, столь счастливо усмирявший королей и народы, становишься теперь нашим освободителем! (фр.)
[79] …договор, который сейчас заключается в Париже… – 1 марта 1814 г. в Шомоне был подписан договор между Англией, Россией. Австрией и Пруссией, обязывавший их действовать вместе вплоть до окончательной победы, после достижения которой союз четырех держав должен был бдительно наблюдать, чтобы Франция не пыталась нарушить условия мира, которые будут ей продиктованы.
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »