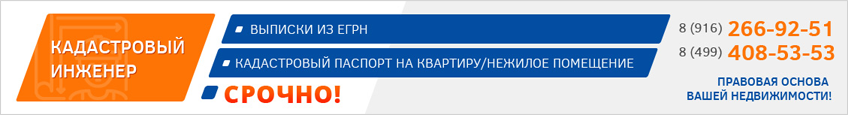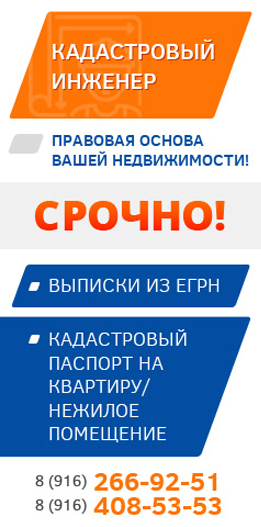02 февраля 2012
Стихотворения. Автор: Ивасив Александр Иванович
Литература / Литература славян и народов СССР / Польша / Альбом Шимборска (Шимборская) Вислава Szymborska (Szymborska) Wis
Разместил: Ивасив Александр
В Кракове на 89-м году жизни скончалась Вислава Шимборская, поэт, переводчик, литературный критик, лауреат Нобелевской премии.
Ее поэтическое наследие невелико: опубликовано чуть более 350 стихотворений. На вопрос, почему она так мало пишет, Вислава Шимброская ответила как-то: «Просто у меня в доме есть мусорное ведро». Эти немногочисленные стихи тем не менее переведены на английский, немецкий, французский, шведский, арабский, китайский, японский и многие другие языки. В том числе на русский, причем переводить Виславу Шимборскую начали еще в Советском Союзе, несмотря на откровенное диссидентство поэтессы, подписывавшей письма в защиту противников режима в Чехословакии и других странах Варшавского договора и поддерживавшей «Солидарность». Среди ее русских переводчиков были Анна Ахматова и Давид Самойлов.
Вислава Шимборская родилась в 1923 году в городке Курник близ Познани, выросла в Кракове, где во время немецкой оккупации окончила подпольную польскую школу, а после войны изучала полонистику и социологию в Ягеллонском университете. Дебютировала в 1945-м стихотворением «Прошу слова», опубликованным в газете «Дзенник польски», в 1952-м и 1954-м выпустила первые лирические сборники, но началом настоящей поэзии считала третью книгу «Призывы к йети», вышедшую в оттепельном 1957-м и приветствовавшую конец сталинской зимы. Последующие сборники Виславы Шимборской появлялись гораздо реже: стихи оттачивались медленно, она начала писать верлибром, все больше сближаясь с поэтами Западной Европы. Переводила с французского, причем диапазон ее интересов был очень широк — от Агриппы д`Обинье до Шарля Бодлера.
Вислава Шимборская была удостоена Международной литературной премии Гете (1991 год), премии Гердера (1995 год), премии польского ПЕН-клуба (1996 год). В 1996-м она стала девятой женщиной—лауреатом Нобелевской премии по литературе. В комментарии к своему решению шведская академия отметила, что ее «поэзия с иронической точностью позволяет историческому и биологическому контексту проявляться во фрагментах человеческого бытия».
Рита Русакова
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1863945
Две обезьяны
Вот мой великий сон на аттестат зрелости:
Сидят у окна две обезьяны, скованные цепью,
За окном колышется небо
И плещется море.
Я сдаю экзамен по истории человечества.
Плаваю, заикаюсь.
Одна обезьяна слушает, иронически глядя в упор,
Другая якобы в дремоту погружена,
Но когда вместо ответа воцаряется тишина,
Она мне подсказывает тихим бренчаньем оков.
Перевод Андрея Базилевского
Dwie malpy Bruegla

Tak wyglada moj wielki maturalny sen:
siedza w oknie dwie malpy przykute lancuchem,
za oknem fruwa niebo
i kapie sie morze.
Zdaje z historii ludzi.
Jakam sie i brne.
Malpa wpatrzona we mnie, ironicznie slucha,
druga niby to drzemie —
a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brzakaniem lancucha.
Две обезьяны Брейгеля

Таков мой вечный экзаменационный сон:
в окне сидят две обезьяны, скованные цепью,
а за окном
плещется море и порхает небо.
Сдаю историю людей.
Плету и заикаюсь.
Глядит с иронией одна из обезьян,
другая как бы спит в оцепененье,
когда же на вопрос молчу, замявшись, я,
она подсказывает мне
тихим позвякиваньем цепи.
Перевод Натальи Астафьевой
Две обезьяны Брейгеля
Вот так выглядит во сне мой экзамен
на аттестат зрелости: в оконном проеме
сидят на цепи две обезьяны; за ними
порхает небо и плещется море.
Я сдаю историю людей.
Мямлю что-то невразумительное.
Обезьяна анфас насмешливо слушает.
Та, что в профиль, клюет носом,
а когда я вконец запутываюсь,
подсказывает:
тихонько позвякивая цепью.
Перевод Дмитрия Веденяпина
Две обезьяны Брейгеля
Сон накануне экзамена на аттестат, подтверждающий зрелость:
две обезьяны прикованы цепью в проеме оконном,
небо снаружи порхает,
купается море.
Вот мой билет по истории рода людского.
Путаюсь и вру.
Взгляд обезьяны, что слева, иронии полон,
Дремлет как будто другая, —
когда ж повисает молчание,
знак подает мне
бренчанием цепи негромким.
Перевод Марины Курганской
Две обезьяны Брейгеля
Мой последний экзамен, застывший во сне:
там сидят на цепи две мартышки в окне,
за окном кувыркается небо
и купается море.
По истории рода людского
плутаю, сбиваясь.
Обезьяна, меня изучая, иронично внимает,
дремлет вторая, но словно нечаянно,
когда после вопроса наступает молчание,
тихим бренчаньем цепи
мне помогает.
Перевод Ирины Аледьгейм и Алексея Хованского
Две обезьяны Брейгеля
Таков мой извечный сон выпускницы:
две скованных цепью обезьяны в нише окна,
а за окном — небо пляшет
и море резвится.
Сдаю я историю человечества.
Запинаюсь и плаваю.
Одна обезьяна, не сводя с меня глаз, благосклонно внимает,
вторая — похоже что в забытьи,
а когда после заданного вопроса молчание повисает,
та, другая, подсказку мне посылает
тихим позвякиваньем цепи.
Перевод Ирины Подчищаевой
Кое-что о душе
Душа бывает по временам.
Ни у кого ее нет непрестанно
и навсегда.
День за днем,
год за годом
могут пройти без нее.
Порой разве что в восторгах
и детских страхах
заводится на подольше.
Порой разве что в удивленье,
что вот и настала старость.
Изредка ассистирует
нам при надсадных занятиях,
таких, как двиганье мебели,
таскание чемоданов
и ходьба в неразношенной обуви.
При заполненье анкет
и рубке бифштексов
она берет выходной.
На тысячу разговоров
участвует разве в одном,
да и то не всегда,
предпочитая молчание.
Когда наше тело болит и болит,
незаметно уходит с дежурства.
Привередливая,
не любит видеть нас в толпе,
ей претит наша страсть к превосходству
и деловой крутеж.
Печаль и радость
для нее не разные чувства.
Только их сочетанье
держит ее при нас.
На нее можно рассчитывать,
когда мы ни в чем не уверены,
но до всего любопытны.
Из материальных предметов
по нраву часы ей с маятником
и зеркала, что усердствуют,
даже когда в них не смотришь.
Не скажет, откуда является
и куда опять подевается,
но явно ждет этих вопросов.
Похоже,
что, как и она нам,
мы ей тоже
зачем-то нужны.
Перевод Асара Эппеля
Похвала снам
Во сне
я рисую как Вермеер ван Дельфт.
Бегло говорю по-гречески,
и не только с живыми.
И вожу машину,
которая мне послушна.
Я способна
написать великие поэмы.
Я слышу голоса
не хуже настоящих святых.
Вы удивились бы —
я изумительно играю на рояле.
И взлетать я умею как надо,
то есть сама над собой.
И падая с крыши
я умею упасть мягко в зелень.
И без труда
я дышу под водой.
Я не жалуюсь:
мне удалось открыть Атлантиду.
Меня радует, что перед смертью
я всегда успеваю проснуться.
Я сразу же вслед за взрывом
переворачиваюсь на другой бок.
Я тоже дитя эпохи,
но я им быть не обязана.
Несколько лет назад
я видела два солнца.
А позавчера пингвина.
И совершенно явственно.
Перевод Виктора Коркия
Монолог для Кассандры

Это я, Кассандра.
А это мой город под пеплом.
А это мой посох и ленты жрицы.
А это моя голова, переполненная сомнениями.
Это правда, я победила.
Моя правота права, как луна в полнолунье.
Только с пророком, которому напрочь не верят,
может случиться такое.
Только с теми, которые вяло взялись за дело,
и все могло сбыться так быстро,
как будто и не было вовсе.
Отчетливо помню,
как люди, увидев меня, смолкали на полуслове.
Смех обрывался.
Руки теряли друг друга.
Дети бежали к матери.
Я даже не знала их тленных имен.
А песенка эта о зеленом листике —
никто ее не закончил при мне.
Я их любила.
Но со своей колокольни.
Над жизнью.
Из будущего. Где всегда пусто
и откуда проще простого увидеть смерть.
Я жалею, что мой голос был твердым.
Посмотрите со звезд на себя, — я кричала, —
посмотрите со звезд на себя.
Они слушали и смотрели под ноги.
Жили в жизни они.
Большими ветрами гонимы.
Предначертанно жили.
От рожденья в прощальных телах.
Но жила в них надежда какая-то влажная,
мерцал огонек, утоляющий голод мерцаньем.
Знали они, что такое минута,
о, если хотя бы одна, хоть какая-нибудь,
прежде чем —
Вышло по-моему.
Но из этого ничего не следует.
А это только моя одежка, огнем опаленная.
А это только мои пророческие лохмотья.
Это только мое искривленное лицо.
Лицо, которое не знало, что могло быть прекрасным.
Перевод Виктора Коркия
Monolog dla Kasandry
To ja, Kasandra.
A to jest moje miasto pod popiołem.
A to jest moja laska i wstążki prorockie.
A to jest moja głowa pełna wątpliwości.
To prawda, tryumfuję.
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo.
Tylko prorocy, którym się nie wierzy,
mają takie widoki.
Tylko ci, którzy źle zabrali się do rzeczy,
i wszystko mogło spełnić się tak szybko,
jakby nie było ich wcale.
Wyraźnie teraz przypominam sobie,
jak ludzie, widząc mnie, milkli wpół słowa.
Rwał się śmiech.
Rozpalały się ręce.
Dzieci biegły do matki.
Nawet nie znałam ich nietrwałych imion.
A ta piosenka o zielonym listku —
nikt jej nie kończył przy mnie.
Kochałam ich.
Ale kochałam z wysoka.
Sponad życia.
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć.
Żałuję, że mój głos był twardy.
Spójrzcie na siebie z gwiazd — wołałam —
spójrzcie na siebie z gwiazd.
Słyszeli i spuszczali oczy.
Żyli w życiu.
Podszyci wielkim wiatrem.
Przesądzeni.
Od urodzenia w pożegnalnych ciałach.
Ale była w nich jakaś wilgotna nadzieja,
własną migotliwością sycący się płomyk.
Oni wiedzieli, co to takiego jest chwila,
och bodaj jedna jakakolwiek
zanim —
Wyszło na moje.
tylko że z tego nie wynika nic.
A to jest moja szmatka ogniem osmalona.
A to są moje prorockie rupiecie.
A to jest moja wykrzywiona twarz.
Twarz, która nie wiedziała, że mogła być piękna.
Бал



Покуда толком ничего не ясно,
поскольку нет сигналов долетевших,
пока Земля опять же не такая,
как ближние и дальние планеты,
покуда нет ни слуху и ни духу
о прочих травах, предпочтенных ветром,
о деревах других в коронах кроны,
другом зверье, как наше, несомненном,
покуда нету эха, кроме местных,
которое умело б говорить слогами,
покуда ничего не сообщалось
о худших или лучших амадеях,
платонах или эдисонах,
пока злодейства наши
соперничают только меж собой,
а приданное нам добросердечье
ни на какое больше не похоже
и хоть сомнительно, зато одно такое,
а головы с невнятицей иллюзий —
единственные, полные иллюзий,
а вопли, что возносим к небосводу
всего лишь вопли из-под сводов нёба, —
мы мним себя гостями на танцульке
особыми и отличенными,
танцуем под музыку местного оркестрика,
и пусть нам представляется,
что этот бал один и есть такой;
кому как – не знаю,
а мне достаточно
для счастья и для злосчастья
тихое захолустье,
где звезды говорят спокойной ночи,
немногозначительно
перемигиваясь
по нашему поводу.
Перевод Асара Эппеля
Тень
Тень моя — шут при королеве.
Привстанет королева с кресел,
а шут в дурацком перепеве —
скок! — в потолок башкою треснет.
И мучится, быть может, болью
в своем двухмерном свете. Может,
он при дворе моем не может
довольствоваться жалкой ролью.
Она склонится из бойницы,
а шут и спрыгнет с вышины.
Всем ухитрились поделиться —
вот только доли не равны.
Дурак присвоил жестов живость,
бесстыдство пафоса и лживость —
все то, на что меня не стать:
порфиру, скипетр и фальшивость.
Ах, буду легкой в повороте,
ах, запрокинусь в той келейке,
король, когда вы прочь уйдете,
король, на той узкоколейке.
Король, счастливых вам дорог,
не я — мой шут на рельсы лег.
Перевод Асара Эппеля
Cien
Moj cien jak blazen za krolowej.
Kiedy krolowa z krzesla wstanie,
blazen nastroszy sie na scianie
i stuknie w sufit glupia glowa.
Co moze na swoj sposob boli
W dwuwymiarowym swiecie. Moze
blaznowi zle na moim dworze
i wolalby sie w innej roli.
Krolowa z okna sie wychyli,
a blazen z okna skoczy w dol.
Tak kazda czynnosc podzielili,
Ale to nie jest pol na pol.
Ten prostak wzial na siebie gesty,
patos i caly jego bezwstyd,
to wszystko, na co nie mam sil
— korone, berlo, plaszcz krolewski.
Bede, ach, lekka w ruchu ramion,
ach, lekka w odwroceniu glowy,
krolu, przy naszym pozegnaniu,
krolu, na stacji kolejowej.
Krolu, to blazen o tej porze,
krolu, polozy sie na torze.
Тень
Тень — точно шут за королевой.
Лишь королева с кресла встанет,
он по стене взлетит нелепо
и в потолок башкою грянет.
Хранит свои, наверно, боли
двумерный мир его. Наверно,
ему в тиши дворцовой скверно,
и об иной мечтал он роли.
Едва склонюсь я на перила,
бедняга выброситься рад.
Судьба во всем нас поделила,
да жаль — не поровну расклад.
Себе забрал он позы, страсти
с бесстыдным пафосом и пылом,
и знаки королевской власти —
все, что самой мне не по силам.
Ах, как легко качну плечами
и вскину голову в короне,
с тобой, король мой, без печали
простясь, король мой, на перроне.
Король мой, это шут с откоса,
король мой, прянул под колеса.
Перевод Анатолия Гелескула
Моя тень
Тень — это шут при королеве.
Шагнуть мне стоит за порог —
мой шут уперся в потолок,
скосил затылок в глупом гневе.
А это больно, может быть,
жить в тесноте двух измерений,
среди придворных превращений.
Хотел бы шут шутом не быть.
В окно взгляну, и поневоле
на землю прыгает дурак.
Мы поделили наши роли
не пополам, не так на так.
Он жесты взял, их щедро мечет,
в бесстыдстве пафоса кипит,
он взял все то, что давит плечи:
корону, мантию и скипетр.
Ах, буду легкой я вдвойне,
в походке легкой и в поклоне,
когда, король, придется мне
с тобой проститься на перроне.
Король, король, ты видишь, лег
мой шут на рельсы поперек.
Перевод Святослава Свяцкого
Тень
За мною тень, как шут придворный,
Отсутствует меж нами сходство,
Я встану — шут мой поскользнется
И въедет в потолок невольно
Башкой садовой. Больно все же
Бывает и в двухмерном мире, —
Роль тяжела. В моей порфире
Шуту не по себе, быть может.
Вот госпожа в окошко взглянет,
А шут с окна сорвется вниз.
Мы неразлучны, но не равны:
Капризы мне — ему карниз.
Простак себе взял тяжесть жеста,
Бесстыдство пафоса, и вместо
Бубенчиков — нелегкий груз
Моих регалий королевских.
Легко, король, пожму плечами,
Легко, король, я отвернусь
При расставанье на вокзале
В последнюю минуту. Пусть,
Король, ты не заметишь даже,
Как шут на рельсы молча ляжет.
Перевод Марины Курганской
Тень
Тень моя, как шут при королеве,
Неотступно следует за мной.
Чуть привстану, тень — в слезах иль в гневе —
Стукнется о стену головой.
Не пытаясь закричать от боли,
Съежится, коль сяду я опять…
Может быть, совсем иные роли
Ей при мне хотелось бы играть…
Я к окошку подойду украдкой,
Не ступив и взглядом на карниз,
А она, бедняга, без оглядки
Норовит туда,
на камни,
вниз.
Тень, как шут, своим нелепым жестом
Королеву выставит на смех
И величья царственного вместо
Обнажит отчаянье при всех.
При разлуке с королем любимым
Легким будет шеи поворот…
Только тень, скользнув неслышно мимо,
Горестно на рельсы упадет…
Перевод Виктора Филиппова
Утопия
Остров, на котором во всем абсолютная ясность.
Здесь можно встать на твердую почву доказательств.
Нет иных путей, чем единственно правильный путь.
Здесь растет ветвистое
Древо Озарения.
И поразительно прямое Древо Понимания
над источником, что зовется — Ах, Вот Оно Как.
Чем дальше в лес, тем лучше видна
Долина Очевидного.
Стоит только возникнуть сомнению,
ветер тут же его развеет.
Эхо, взяв слово по собственному желанию,
охотно вам раскроет тайны мироздания.
По правую руку пещера, в которой покоится Смысл.
Слева озеро Глубокого Убеждения,
со дна его легко отрывается Истина и
всплывает на поверхность.
Над всем господствует пик Непоколебимой Уверенности.
С него открывается вид на самую суть вещей.
Несмотря на свои преимущества, остров необитаем.
Мелкие следы ступней на прибрежном песке
все без исключения ведут в сторону моря.
Как если бы отсюда только уходили
и безвозвратно тонули в пучине вод.
В жизни непостижимой.
Перевод Андрея Базилевского
Utopia
Wyspa, na ktorej wszystko sie wyjasnia.
Tu mozna stanac na gruncie dowodow.
Nie ma drog innych oprocz drogi dojscia.
Krzaki az uginaja sie od odpowiedzi.
Rosnie tu drzewo Slusznego Domyslu
o rozwiklanych odwiecznie galeziach.
Olsniewajaco proste drzewo Zrozumienia
przy zrodle, co sie zowie Ach Wiec To Tak.
Im dalej w las, tym szerzej sie otwiera
Dolina Oczywistosci.
Jesli jakies zwatpienie, to wiatr je rozwiewa.
Echo bez wywolania glos zabiera
i wyjasnia ochoczo tajemnice swiatow.
W prawo jaskinia, w ktorej lezy sens.
W lewo jezioro Glebokiego Przekonania.
Z dna odrywa sie prawda i lekko na wierzch wyplywa.
Goruje nad dolina Pewnosc Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza sie Istota Rzeczy.
Mimo powabуw wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach slady stop
bez wyjatku zwrocone sa w kierunku morza.
W zyciu nie do pojecia.
Утопия
Остров, где все беспрекословно ясно.
Здесь можно стать на твердом грунте аргументов.
Здесь нет иных путей, лишь путь, ведущий к цели.
Кусты аж гнутся от ответов.
Растет здесь древо Мудрого Предвиденья,
ветвящееся вечно.
Прямолинейнейшее древо Пониманья
возле источника Ах — Значит — Это — Так.
Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Непреложного.
Если и есть сомненье, ветер его развеет.
Не вызванное эхо берет голос
и тайны миров объясняет охотно.
Направо пещера, где пребывает смысл.
Налево озеро Глубокого Убежденья.
Со дна отрывается истина и легко всплывает.
Высится над долиной Неколебимая Вера.
С ее высоты открывается Суть Вещей.
При всех соблазнах остров сей безлюден,
на берегах следы ступавших ног,
все они без исключения в сторону моря.
Как если б все лишь уходили прочь
и безвозвратно погружались в бездну.
В жизнь что нельзя постичь.
Перевод Натальи Астафьевой
Утопия
Вот оно: царство вожделенной Ясности,
остров Достоверности,
где даже кусты сгибаются под тяжестью точных ответов,
а дороги, все как одна, ведут к цели.
Здесь растет дерево Прозрения,
и его ветви прекрасны, как солнечные лучи.
У родника, имя которому Ах Вот Оно Что,
цветет стройное дерево Понимания,
и с каждым шагом все шире распахивается
Долина Безусловности.
Ветер легко развеивает случайные сомнения,
а нежданное эхо поверяет
последние тайны вселенной.
Справа — пещера Смысла,
слева — озеро Глубокой Уверенности,
пронизанное светом Истины.
Впереди — высится гора Неколебимой Веры,
с которой открывается Суть Вещей.
Однако остров безлюден,
а цепочки следов на песке
тянутся к морю.
Как будто все только уходят отсюда,
чтобы уже навсегда исчезнуть в волнах
необъяснимой жизни.
Перевод Дмитрия Веденяпина
Утопия
Остров, где нисходит просветление.
Здесь можно постоять на почве доказательств.
Здесь нет иных путей, лишь те, что прямо к цели.
Кусты сгибаются под тяжестью ответов.
Стоит Предположений Верных древо
с развесистой, так повелось уж, кроной.
Стрелой взмывает древо Понимания
У родника — зовется он Ах Вот Как.
Чем дальше в лес, тем шире перед вами
Долина Ясности.
Чуть где сомненье — враз развеет ветер.
Эхо никогда не просит слова,
Первым говорит о Мирозданья тайнах.
Скрытый смысл найдешь в пещере справа.
Слева — озеро Глубоких Убеждений.
С дна его легко всплывает правда.
И царит над всем Уверенность Святая,
а с ее вершины Суть Вещей струится.
Но заманчивый безлюден остров,
ног следы по берегам песчаным
все без исключенья прочь стремятся.
Жизнь — выше пониманья.
Перевод Марины Курганской
Утопия
Остров, где все становится ясным.
Где можно опереться на доказательства.
Где нет путей иных, кроме пути к цели.
А кусты сгибаются под множеством ответов.
Растет тут дерево Догадки Верной
С распутанными издавна ветвями.
И удивительно прямое древо Понимания
Над источником, зовущимся Ах — вот — как...
Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Очевидности.
Если залетает сомнение, ветер его развеивает.
Незваным советчиком откликается эхо
И охотно толкует тайны мироздания.
Направо — пещера, в ней содержится смысл.
Налево — озеро Глубокой Убежденности.
Со дна поднимается истина и всплывает легко на поверхность.
Царит над долиной Уверенность Несокрушимая.
С вершины ее разглядеть можно Сущность Вещей.
Несмотря на такие соблазны, остров безлюден,
Лишь берег привычно хранит следы,
Все до единого обращеные к морю.
Будто отсюда только уходили
И безвозвратно погружались в пучину.
В непрозрачные воды жизни.
Перевод Ирины Адельгейм и Алексея Хованского
Пытки
Ничто не изменилось.
Телу присуща боль.
Должно оно есть и дышать и спать,
кожа у него тонкая, тут же под нею кровь,
оно имеет во множестве зубы и ногти,
кости его ломки, суставы его растяжимы.
В пытках все эти свойства берутся в расчет.
Ничто не изменилось.
Тело дрожит, как дрожало
до основанья Рима и после,
в двадцатом веке, до и после Рождества Христова,
пытки были и есть, лишь земля стала меньше,
и все, что происходит, — как будто здесь, за стенкой.
Ничто не изменилось.
Добавилось лишь людей,
и кроме старых провинностей явились новые,
действительные, внушенные, минутные и никакие,
но крик, которым тело за них отвечает,
был, есть и будет криком безвинной жертвы,
согласно вечной мере и реестру.
Ничто не изменилось.
Лишь манеры, церемонии, танцы.
Жест рук, заслоняющих голову,
остался, однако же, прежний.
Тело извивается, дергается, вырывается,
сбитое с ног, падает, подгибает колени,
синеет, пухнет, истекает слюной и кровью.
Ничто не изменилось.
Кроме теченья рек,
контура лесов, побережий, пустынь, ледников.
Средь этих пейзажей душа блуждает,
исчезнет, вернется, то ближе, то дальше,
сама себе чужда, неуловима,
уверена и не уверена в собственном существовании,
тогда как тело есть и есть и есть,
и некуда ему деваться.
Перевод Натальи Астафьевой
Tortury
Nic się nie zmieniło.
Ciało jest bolesne,
jeść musi i oddychac powietrzem, i spać,
ma cienką skóre, a tuż pod nią krew,
ma spory zasób zębów i paznokci,
kości jego łamliwe, stawy rozciąglliwe.
W torturach jest to wszystko brane pod uwagę.
Nic się nie zmieniło.
Ciało drży, jak drżało
przed założeniem Rzymu i po jego założeniu,
w dwudziestym wieku przed i po Chrystusie,
tortury są, jak były, zmalała tylko ziemia
i cokolwiek się dzieje, to tak jak za scianą.
Nic się nie zmieniło.
Przybyło tylko ludzi,
obok starych przewinien zjawiły się nowe,
rzeczywiste, wmówione, chwilowe i żadne,
ale krzyk, jakim ciało za nie odpowiada,
był, jest i będzie krzykiem niewinności,
podług odwiecznej skali i rejestru.
Nic się nie zmieniło.
Chyba tylko maniery, ceremonie, tańce.
Ruch rąk osłaniających głowę
pozostał jednak ten sam.
Ciało się wije, szarpie i wyrywa,
ścięte z nóg pada, podkurcza kolana,
sinieje, puchnie, ślini się i broczy.
Nic się nie zmieniło.
Poza biegiem rzek,
linią lasów, wybrzeży, pustyń i lodowców.
Wśród tych pejzaży duszyczka się snuje,
znika, powraca, zbliża się, oddala,
sama dla siebie obca, nieuchwytna,
raz pewna, raz niepewna swojego istnienia,
podczas gdy ciało jest i jest i jest
i nie ma się gdzie podziać
Впечатление от театра
Наиболее важен в трагедии для меня акт шестой:
воскресение из мертвых венчает убийства на сцене,
поправляют парики, тряпки,
вырывают нож из груди,
снимают петлю с шеи,
погибшие выходят вперемежку с живыми
лицом к публике.
Кланяются в одиночку и вместе:
белеет ладонь на пронзенном сердце,
трепетно раскланивается самоубийца,
отвешивает поклоны отрубленная голова.
Кланяются попарно:
бешенство под руку со смирением,
жертва блаженно уставилась на палача,
бунтарь безобидно встает бок о бок с тираном.
Попрана вечность носком королевского башмачка.
Развеяны выводы полями шляпы.
Непоправима решимость завтра начать все сначала.
Шествие гуськом сгинувших еще до финала,
то есть в третьем, четвертом и между актами.
Чудесное возвращение пропавших без вести.
Мысль, что за кулисами они терпеливо ждали,
не снимая костюма,
не смывая грима,
трогает меня больше, чем тирады трагедии.
Но поистине вдохновляет падение занавеса
и то, что видно еще в узком просвете:
вот одна рука устремилась к брошенному цветку,
вот другая поднимает выпавший меч.
И тогда уже третья, невидимая,
выполняет свою повинность:
стискивает мне горло.
Перевод Виктора Коркия
Wrażenia z teatru
Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty;
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny,
poprawianie peruk, szatek,
wyrywanie noża z piersi,
zdejmowanie pętli z szyi,
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi
twarzą do publiczności.
Ukłony pojedyncze i zbiorowe;
Biała dłoń na ranie serca,
Dyganie samobójczyni,
Kiwanie ściętej głowy.
Ukłony parzyste:
Wściekłość podaje ramię łagodności,
Ofiara patrzy błogo w oczy kata,
Buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana.
Deptanie wieczność i noskiem złotego trzewiczka.
Rozpędzanie morałów rondem kapelusza.
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo.
Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej,
Bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami.
Cudowny powrót zaginionych bez wieści.
Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie,
Nie zdejmując kostiumu,
Nie zmywając szminki,
Wzrusza mniej bardziej niż tyrady tragedii.
Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny
I to, co widać jeszcze w niskiej szparze:
Tu oto jedna ręka po kwiat spiesznie sięga,
Tam druga chwyta upuszczony miecz.
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna,
Spełnia swoja powinność:
Ściska mnie za gardło.
Явь
Явь не ускользает,
как ускользают сны.
Ни шорох, ни звонок
ее не спугнут,
ни крик, ни грохот
от нее не пробудят.
Смутны и многозначны
образы в снах,
и можно их толковать
и так и сяк.
Явь означает явь,
вот это и впрямь загадка.
К снам есть ключи.
Явь открывается сама,
и закрыть ее не удается.
Сыплются из нее
школьные аттестаты и звезды,
бабочки детских коллекций,
души бабушкиных утюгов,
шапки без головы
и черепа облаков.
Складывается из этого всего
неразрешимый ребус.
Снов не было бы без нас.
Тот, без которого не было б яви,
неведом,
продукт же его бессонниц
дается каждому,
кто пробуждается.
Это не сны безумны,
безумна явь,
хотя бы упрямством,
с каким она держится
хода событий.
В снах еще жив
наш недавно умерший,
тешится добрым здоровьем
и возвращенной молодостью.
Явь кладет перед нами
его мертвое тело.
Явь не отступит ни на шаг.
Сны эфемерны,
память легко их стряхивает.
Явь не забудешь.
Она неодолима.
Сидит на нашей шее,
Давит сердце,
падает под ноги.
Бежать от нее невозможно,
она везде будет с нами.
Нет такой станции
на всем пути нашего следования,
где бы она нас ни ждала.
Перевод Натальи Астафьевой
Я слишком близко
Я слишком близко, чтоб присниться ему.
Не порхаю над ним, не иду от него
под корнями деревьев. Я слишком близко.
И голосом не моим рыба запела в сети.
Не с моего это пальца колечко скатилось.
Я слишком близко. Дом запылал
без меня, не могу звать на помощь. Слишком близко,
чтоб в моих волосах зазвенел колокольчик.
Слишком близко, не войти мне гостем,
пред которым распахнуты стены.
Уже никогда не умру так легко, так вне тела, так безотчетно,
как прежде в его сновидениях. Я слишком близко,
слишком близко. Слышу шипение
и вижу блестящую кожицу слова,
застыла в объятиях. Он спит,
в этот момент доступен он более
кассирше из шапито, что странствовал со львом,
чем мне, лежащей с ним рядом.
Теперь для нее в нем открыта краснолистная
долина, закрытая снежной горой
в лазурном воздухе. Я слишком близко,
чтоб птицею с неба упасть к нему. Мой крик
мог бы лишь разбудить. Бедная,
оказалась в границах тела,
я была березой, бывала ящерицей
из времен выходила
в цветных переливах атласов кожи. Имела счастье
исчезать с изумленных внезапностью глаз, —
это было богатством богатств. Я близко,
слишком близко, чтоб сниться ему.
Достаю из-под спящего руку,
оцепеневшую, всю в булавках.
На кончике каждой из них —
по падшему ангелу.
Перевод Михаила Микляева
Первая фотография Гитлера


А кто этот бутуз, такой прелестный?
Это ж малыш Адольф, чадо супругов Гитлер!
Может быть, вырастет доктором юриспруденции?
Или же в венской опере будет тенором?
Чья это ручка, шейка, глазки, ушко, носик?
Чей это будет животик, еще неизвестно:
печатника, коммерсанта, врача, священника?
Куда эти милые ножки, куда они доберутся?
В садик, в школу, в контору, на свадьбу,
может быть, даже с дочерью бургомистра?
Лапушка, ангелочек, солнышко, крошка,
когда на свет рождался год назад,
на небе и земле не обошлось без знаков:
весеннее солнце и герани в окнах
и музыка шарманки во дворе,
счастливая планета в розовой бумажке,
а перед родами пророческий сон матери:
голубя во сне видеть — радостная новость,
поймать его же — прибудет гость долгожданный.
Тук-тук, кто там, стучится будущий Адольфик.
Пеленочка, слюнявчик, соска, погремушка,
мальчонка, слава Богу и тьфу-тьфу, здоровый,
похож на папу-маму, на котика в корзинке,
на всех других детишек в семейных альбомах.
Ну не будем же плакать, господин фотограф
накроется черной накидкой и сделает: пстрык.
Ателье Клингер, Грабенштрассе, Браунау,
а Браунау — город маленький, но достойный,
почтенные соседи, солидные фирмы,
дух дрожжевого теста и простого мыла.
Не слышно ни воя собак, ни шагов судьбы.
Учитель истории расстегивает воротничок
и зевает.
Перевод Натальи Астафьевой
Pierwsza fotografia Hitlera
A któż to jest ten mały dzidziuś w kaftaniku?
Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów!
Może wyrośnie na doktora praw?
Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej?
Czyja to rączka, czyja, uszko, oczko, nosek?
Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo jeszcze:
drukarza, konsyliarza, kupca, księdza?
Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują, dokąd?
Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub
może z córką burmistrza?
Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek,
kiedy rok temu przychodził na świat,
nie brakło znaków na niebie i ziemi:
wiosenne słońce, w oknach pelargonie,
muzyka katarynki na podwórku,
pomyślna wróżba w bibułce różowej,
tuż przed porodem proroczy sen matki:
gołąbka we śnie widzieć - radosna nowina,
tegoż schwytać - przybędzie gość długo czekany.
Puk puk, kto tam, to stuka serduszko Adolfka.
Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka,
chłopczyna, chwalić Boga i odpukać, zdrów,
podobny do rodziców, do kotka w koszyku,
do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów.
No, nie będziemy chyba teraz płakać,
pan fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk.
Atelier Klinger, Grabenstrasse Braunau,
a Braunau to niewielkie, ale godne miasto,
solidne firmy, poczciwi sąsiedzi,
woń ciasta drożdżowego i szarego mydła.
Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia.
Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk
i ziewa nad zeszytami.
Элегическая арифметика
Сколько тех, кого я знала
(если вправду я их знала)
мужчин, женщин
(если такое деленье остается в силе)
ступило за тот порог
(если это порог)
перебежало через этот мост
(если назвать это мостом) —
Сколько их после жизни долгой или короткой
(если для них это какая-нибудь разница)
хорошей, ибо началась
плохой, ибо кончилась
(если они не считают что наоборот)
оказалось на том берегу
(если оказалось
и если есть тот берег) —
Не дано мне знать определенно
их дальнейший жребий
(если даже это общий их жребий
и еще это жребий) —
Всё
(если это слово не слишком узко)
у них позади
(если не впереди) —
Сколько их выскочило из мчащегося времени
и в отдалении все жалостнее тает
(если стоит верить перспективе) —
Сколько
(если вопрос имеет смысл,
если можно прийти к окончательной сумме,
прежде чем ты добавишь себя самого)
уснуло глубочайшим сном
(если нет более глубокого) —
До свиданья.
До завтра.
До следующей встречи.
Этих слов они уже не хотят
(если не хотят) повторить.
Обречены на бесконечное
(если не иное) молчанье.
Заняты только тем
(если только тем),
к чему их принуждает отсутствие.
Перевод Натальи Астафьевой
Rachunek elegijny
Ilu tych, ktorych znałam
(jeśli naprawdę ich znałam)
mężczyzn, kobiet
(jeśli ten podział pozostaje w mocy)
przestąpiło ten próg
(jeżeli to próg)
przebiegło przez ten most
(jeśli nazwać to mostem) -
Ilu po życiu krótszym albo dłuższym
(jeśli to dla nich wciąż jakaś różnica)
dobrym, bo się zaczęło,
złym, bo się skończyło
(jeśliby nie woleli powiedzieć na odwrót)
znalazło się na drugim brzegu
(jeśii znalazło się
a drugi brzeg istnieje) -
Nie dana mi jest pewność
ich dalszego losu
{jeśli to nawet jeden wspólny los
i jeszcze los) -
Wszystko
(jeżeli słowem tym nie ograniczam)
mają za sobą
(jeśli nie przed sobą) -
Ilu ich wyskoczyło z pędzącego czasu
i w oddaleniu coraz rzewniej znika
(jeżeli warto wierzyć perspektywie) -
Ilu
(jeżeli pytanie ma sens.
jeżeli można dojść do sumy ostatecznej,
zanim liczący nie doliczy siebie)
zapadło w ten najgłębszy sen
(jeśli nie ma głębszego) -
Do widzenia.
Do jutra.
Do następnego spotkania.
Już tego nie chcą
(jeżeli nie chcą) powtórzyć.
Zdani na nieskończone
(jeśli nie inne) milczenie.
Zajęci tylko tym
(jeżeli tylko tym)
do czego ich przymusza nieobecność.
В честь моей сестры
Моя сестра не пишет стихи
и вряд ли она вдруг начнет писать их.
Она вся в мать — та тоже не писала стихов,
а также в отца, который, как и мать, не писал стихов.
Мне очень хорошо под крышей ее дома:
муж моей сестры скорее умрет, чем станет писать стихи.
И несмотря на то, что я начинаю повторяться,
правда заключается в том, что никто из моих родственников
никогда не писал стихи.
В ящиках письменного стола моей сестры нет старых стихов,
а в ее сумочке вы не найдете новых.
Когда моя сестра приглашает меня на обед,
я знаю — она не будет читать мне свои стихи.
Ее супы прекрасны и без этого,
и ее кофе никогда не прольется на рукопись.
Есть много семей, где никто никогда не писал стихи,
но, как говорится, в семье не без урода: поэзия,
если она случается, начинает протекать сквозь поколения,
образуя водовороты, в которых может погибнуть любое
семейное счастье.
У моей сестры не так уж плохо с устной речью,
но ее письменное наследие состоит лишь из открыток,
которые она пишет в отпуске, каждый год обещая,
что когда она вернется, ей будет
так много
много
много,
что рассказать мне.
Перевод Глеба Шульпякова
Вокзал
Я не приехала в город N.
строго по расписанию.
Как я тебя и предупреждала
в моих неотправленных письмах.
В общем, ты мог не приходить
в назначенное мною время.
Поезд подошел к третьей платформе.
Вышло много народу.
И мое отсутствие присоединилось
к потоку в сторону выхода в город.
Сразу несколько женщин бросились
чтобы занять мое место
в этой толпе.
Кто-то подбежал к одной из них.
Я никогда не видела его прежде.
Но она — она узнала его
сразу же.
И пока они целовались
чужими губами,
с перрона исчез чемодан.
Не мой чемодан.
Итак, вокзал города N.
сдал на “отлично” экзамен
на предмет объективного бытия.
Целое по-прежнему было на своем месте.
Фрагменты мелькали
на обозначенных линиях.
Каждая встреча состоялась
тогда, когда была запланирована.
На недосягаемом от нас
расстоянии.
В раю с потерянным
правдоподобием.
Где же еще.
Где же еще.
Как шелестят эти маленькие
словечки.
Перевод Глеба Шульпякова
Баллада
Вот баллада об убитой,
что внезапно встала с кресла.
Вот баллада правды ради,
что записана в тетради.
При окне без занавески
и при лампе все случилось,
каждый видеть это мог.
И когда, захлопнув двери,
с лестницы сбежал убийца,
встала, как еще живая,
пробудившись в тишине.
Встала, головой качнула
и глазами, как из перстня,
поглядела по углам.
Не по воздуху летала -
стала медленно ступать
по скрипучим половицам.
А потом следы убийства
в печке жгла спокойно:
кипу старых фотографий
и шнурки от башмаков.
Не задушенная вовсе,
не застреленная даже,
смерть она пережила.
Может жить обычной жизнью,
плакать от любой безделки
и кричать, перепугавшись,
если мышь бежит. Так много
есть забавных мелочей,
и подделать их нетрудно.
И она встает и ходит,
как встают и ходят все.
Перевод Анны Ахматовой
Маленькая девочка стаскивает скатерть
Вот уже год на этом свете,
а тут еще не все исследовано
и взято под контроль.
Теперь опробуются вещи,
которые не двигаются сами.
Нужно им в этом помочь,
подвинуть, подтолкнуть,
брать с места и переносить.
Не все хотят, например, шкаф, буфет,
неподдающиеся стены, стол.
Но скатерть на столе упрямом —
если схватиться за края покрепче —
согласна ехать.
А на скатерти стаканы, ложки, чашка
аж трясутся от охоты.
Очень интересно,
какое они выберут движенье,
когда окажутся уж на краю:
гулять по потолку?
летать ли вокруг лампы?
прыгнуть на подоконник, а оттуда на дерево?
Мистер Ньютон пока не при чем.
Пусть себе смотрит с неба и машет руками.
Эта попытка сделана должна быть.
И будет сделана.
Перевод Натальи Астафьевой
Террорист, он смотрит
Бомба взорвется в баре в тринадцать двадцать.
Сейчас тринадцать шестнадцать.
Кто-то успеет войти,
кто-то успеет выйти.
Террорист переходит улицу.
Взрыв ему не опасен,
а видно все, как в кино:
Женщина к желтой куртке, заходит.
Мужчина в темных очках, он выходит.
Парни, одетые в джинсы, о чем-то там говорят.
Тринадцать семнадцать четыре секунды.
Тот, кто пониже, — счастливчик, садится на мотоцикл,
а тот, кто повыше, заходит внутрь.
Тринадцать семнадцать и сорок секунд.
Проходит девушка, в волосах зеленая лента,
внезапно ее заслоняет автобус.
Тринадцать восемнадцать
И девушки не видно.
Неужели она так глупа и вошла, или нет,
мы узнаем тогда, когда начнут выносить.
Тринадцать девятнадцать.
Никто не заходит.
Но вышел лысый толстяк.
Он ищет что-то в карманах и
в тридцать девять без десяти секунд
вернулся назад за никчемной перчаткой.
Тринадцать двадцать.
Время, как оно тянется.
Уже, наверно, теперь.
Еще не теперь.
Да, теперь.
Бомба, она взрывается.
Перевод Михаила Микляева
Дорожная элегия
Все мое, но не надолго,
все не насовсем на память,
а мое, покуда вижу.
Были ли, уже не вспомню,
головы у богинь.
От города Самоков только дождь
и ничего кроме дождя.
Париж от Лувра до деталей
затягивается бельмом.
От бульвара Сен-Мартен одни ступени,
и ведут они в провал.
Всего лишь полтора моста
в Ленинграде многомостном.
От Упсалы бедной:
кусочек большого собора.
Несчастный танцор софийский,
тело без лица.
Отдельно его лицо без глаз,
отдельно его глаза без зрачков,
отдельно зрачки кота.
Кавказский орел ширяет
над реконструкцией ущелья,
золото солнца не червонно
и фальшивы камни.
Все мое, но не надолго,
все не насовсем на память,
а мое, пока гляжу.
Неоглядны, необъятны,
а подробны аж до жилки,
до песчинки, до каждой капли
— пейзажи.
Не сберечь мне ни былинки
в полной подлинности зримой.
Приветствие с прощаньем
в одном и том же взгляде.
Обретенье и потеря —
в одном движенье шеи.
Перевод Натальи Астафьевой
Люди на мосту

Странная эта планета и странные на ней люди.
Подчиняются времени, но признать его не хотят.
Есть у них способы, чтобы выразить свой протест.
Картинки, например. Такая, скажем:
Ничего особенного, на первый взгляд.
Видна вода.
Виден один из берегов.
Лодка, упрямо плывущая против теченья.
Мост над водой и люди на мосту.
Люди заметно прибавляют шагу,
поскольку вдруг из темной тучи
дождь начал остро сечь.
Все дело в том, что ничего не происходит дальше.
Туча не изменяет цвет и форму.
Дождь не усиливается и не утихает.
Лодка плывет без движенья.
Люди на мосту
бегут все на том же месте.
Без комментария не обойтись:
Картинка не такая уж простая.
Художником остановлено время.
Отвергнуты его законы.
Оно лишено влиянья на ход событий.
Пренебрегли им и его презрели.
По воле бунтовщика,
некоего Хиросиге Утагавы
(который, впрочем,
давно как и положено минул),
время споткнулось и упало.
Может быть, это лишь озорная шутка,
шалость в масштабе двух-трех галактик,
на всякий случай однако
добавим, что следует ниже:
Здесь считают хорошим тоном
восторгаться этой картинкой,
высоко ее ценят уж многие годы.
Есть такие, которым и этого мало.
Слышат даже шум дождя,
ощущают холодные капли на шеях и спинах,
смотрят на мост и людей,
будто видят там и себя,
в том же самом нескончаемом беге
бесконечной дорогой, отбываемой вечно,
и верят в своем самомненье,
что так и на самом деле.
Перевод Натальи Астафьевой
Фотография 11 сентября

Прыгнули вниз из горящего зданья —
один, два, несколько человек
выше, ниже.
Фотография их задержала при жизни,
а теперь сохраняет
над землею к земле.
Каждый из них еще цел,
со своим лицом
и кровью хорошо укрытой.
Времени еще хватает,
чтобы волосы растрепались,
а из карманов повыпадали
ключи, мелкие деньги.
Они еще витают в воздухе,
в пределах этого пространства,
которое как раз открылось.
Только две вещи я могу для них сделать —
описать их полет
и не добавлять последней фразы.
Перевод Натальи Астафьевой
В парке
— Ой-ёй — удивляется мальчик —
а кто эта пани?
— Это памятник Милосердья или чего-то такого — отвечает мама.
— А почему эта пани так по… о… б… бита?
— Не знаю, сколько помню,
всегда была в таком виде.
Город должен что-то с этим сделать.
Или ее обновить или выбросить вовсе.
Ну, ладно, ладно, идем дальше.
Перевод Натальи Астафьевой
Заметка
Жизнь — единственный способ,
чтобы обрастать листвой,
ловить ртом воздух на песке, взлетать на крыльях;
быть собакой
или гладить ее по теплой шерсти;
отличать боль
от всего, что не является ею;
быть в орбите событий,
теряться в пейзажах,
искать наименьшей среди ошибок.
Исключительный шанс,
чтобы хоть мгновенье помнить,
о чем беседа шла
при потушенной лампе;
и чтобы хоть раз однажды споткнуться о камень,
под дождем промокнуть,
ключи потерять в траве;
и взглядом следить за искрой при ветре;
и всегда какой-то важной вещи
не знать, не ведать.
Перевод Натальи Астафьевой
Кот в пустой квартире
Умереть — так с котом нельзя.
Ибо что же кот будет делать в пустой квартире.
Лезть на стену.
Отираться среди мебели.
Ничего как бы не изменилось,
Но все как будто подменили.
Ничего как бы не сдвинуто с места,
Но все не на месте.
И вечерами лампа уж не светит.
На лестнице слышны шаги, но не те.
Рука, что клала рыбу на тарелку,
Тоже не та, другая.
Что-то тут не начинается
В свою обычную пору.
Что-то тут не происходит как должно.
Кто-то тут был и был, а потом вдруг исчез, и нет его и нет.
Обследованы все шкафы.
Облазаны все полки.
Заглянуто под ковер.
Даже вопреки запрету
Разбросаны бумаги.
Что тут еще можно сделать?
Только спать и ждать.
Но пусть он только вернется,
Пусть только покажется.
Уж тут-то он узнает,
Что так с котом нельзя.
Надо пойти в его сторону,
Будто совсем не хочется,
Потихонечку,
На очень обиженных лапах.
И никаких там прыжков,
Мяуканий поначалу.
Перевод Натальи Астафьевой
Отсутствие
Еще бы немного,
и моя мать могла выйти
за пана Збигнева Б. из Воли Здунской,
а появись у них дочка – ею была бы не я.
Возможно, много лучше запоминающая имена и лица,
хоть раз услышанную мелодию.
Она бы знала какая птица какая.
Получала бы хорошие отметки по физике и химии
и поскромней – по польскому,
но при этом тайком бы писала стихи,
сразу куда интересней моих.
Еще бы немного,
и мой отец тогда же мог взять в жены
панну Ядвигу Р. из Закопане,
а родись у них дочка – ею была бы не я.
Возможно, поупрямей в настаивании на своем.
Храбро прыгающая в глубокую воду.
Подверженная коллективным эмоциям.
Беспрестанно замечаемая повсюду,
но редко над книгой, чаще во дворе
гоняющей мяч с мальчишками.
Возможно, обе даже бы оказались
в одной школе и в одном классе.
Но никакой между ними приязни,
никакого родства,
и на школьном снимке далеко друг от друга.
Девочки, встаньте сюда –
велел бы фотограф, –
кто пониже – вперед, кто повыше – сзади.
Когда махну, улыбнитесь.
Только еще раз посчитайтесь –
все ли тут?
Да, пан фотограф, все.
АБВ
Никогда уже не получится узнать,
что думал обо мне А.
До конца ли простила меня Б.
Почему В. делал вид, что все в порядке.
Какова была роль Г. в молчании Д.
Чего ожидал Е., если ожидал.
Почему Ж. не показывала, хотя хорошо знала.
Что 3. было скрывать.
Что И. не терпелось добавить.
Имело ли значение,
что я была рядом,
для К., для Л. и остального алфавита.
Перевод Асара Эппеля
Дорожное происшествие
Они пока не знают,
что полчаса назад
произошло на шоссе.
На их часах
некое время как время,
послеполуденное, четверговое, сентябрьское.
Кто-то откидывает лапшу на дуршлаг,
Кто-то сгребает во дворике листья.
Галдя, носятся вокруг стола дети.
Кому-то милостиво позволяет погладить себя кот.
Кто-то плачет –
как оно бывает у телевизора,
когда бессовестный Диего изменяет Хуаните.
Слышится стук в дверь –
это ничего, это соседка возвращает сковородку.
В глубине квартиры звонит телефон –
пока что только насчет объявления.
Если бы кто-нибудь подошел к окну
и поглядел в небо,
он бы уже смог увидеть тучи,
присквозившие с места события.
Клочковатые, правда, и раскиданные,
но такое за ними водится.
Перевод Асара Эппеля
Назавтра - без нас
Утро ожидается холодным и туманным.
С запада
начнут перемещаться дождевые тучи.
Видимость предположительно слабая.
Дороги скользкие.
Постепенно в течение дня
под влиянием северного антициклона
местами возможны прояснения.
Однако при переменном и сильном порывистом ветре
вполне вероятны грозы.
Ночью
погода улучшится по всей стране,
только на юго-востоке
не исключены осадки.
Температура заметно понизится,
зато давление возрастет.
Завтрашний день
обещает быть солнечным,
хотя тем, кому жить дальше,
не помешает зонтик.
Перевод Асара Эппеля
Лесное моралите
Он входит в дебри,
чтоб запропасть в них;
он знает лес на пролет и птичий полет,
на отлет превратный и прилет обратный.
Он вволю приволен в трущобе чащобы,
в зеленых сплетеньях,
в тенях и подтеньях,
в тиши, что в уши шуршит,
когда шаг ее ворошит.
Всё тут слажено рифмой,
словно в присловьях детских.
Между чащей и пущей,
как между стен соседских.
Видит, как рдеет, реет, спервоначалу зреет,
в укромных и скоромных завязях и связях,
что спехом тут, что смехом, что лесным орехом,
а в прорехе огрехом.
Знает, что шустро-быстро,
кто делен, кто отделен,
что за лучик из тучек
расселён меж расселин.
Где бочаги в овраге, муравейник в коряге,
кто там скоком-поскоком и наскоком боком,
что лещиной, лощиной, что лозой, что березой –
смерть здесь только вещает
обыденной прозой.
Знает, что мигом, прыгом,
по тропинке шмыгом
куда из ниоткуда,
хотя и чудо-юдо,
единственное в природе, так себе по породе.
Знает, где готика кроны,
где барокко дубравы,
что тут вихорь, что вяхирь,
как тут корой корявы
и ожидают управы
дыбом дубы от расправы.
Ну а после и возле
поляна снова медвяна,
вовсе теперь не такая, какою казалась рано.
А меж людей его тотчас обуревает злость –
всякий по нём курьезный, кто от разных розный.
Перевод Асара Эппеля
Случай
Небо, земля, утро,
время восемь пятнадцать.
В пожелтелой траве саванны
покой и безмолвие.
В отдаленье эбеновое дерево
с зеленой, как всегда, листвой
и петляющими по земле корнями.
Внезапно в блаженной тишине что-то случается.
Две жаждущие жить жизни сорвались с места.
Стремглав уносится антилопа,
за ней львица, запыхавшаяся и голодная.
Шансы обеих пока что равны.
Даже некоторое преимущество у беглянки.
И если бы не корень,
торчащий из земли,
если бы не споткнулось
одно из четырех копытец,
если бы не четверть секунды
сбитого ритма,
чем пользуется львица,
метнувшись долгим прыжком...
На вопрос: кто виноват,
ничего, только молчанье.
Невиноватое небо, circulus coelestis.
Невиноватая terra nutrix, земля-кормилица.
Невиноватое tempus fugitivum, время.
Невиноватая антилопа, gazelle dorcas.
Невиноватая львица, leo massaicus.
Невиноватое дерево, diospyros mespiliformis.
И наблюдатель с биноклем,
всегдашний в подобных случаях
homo sapiens innocens.
Перевод Асара Эппеля
Утешение

Дарвин.
Для отдохновения якобы читал романы.
Однако терпеть не мог,
если они кончались печально.
Когда ему такой попадался,
яростно швырял его в камин.
Правда, неправда –
а я склонна верить.
Обозрев разумом столько пространств и времен,
наглядевшись стольких вымерших видов,
таких триумфов сильных над слабыми,
такой уймы попыток просуществовать,
уже с начала или в результате напрасных,
что хотя бы от вымысла
с его микромасштабом
имел право ожидать хеппи-энда.
То есть обязательно: лучик из-за туч,
любовники снова вместе, семьи помирились,
сомнения рассеяны, верность вознаграждена,
ценности откопаны, состояния возвращены,
соседи сожалеют о своем ожесточении,
доброе имя восстановлено, алчность устыжена,
старые девы выданы за почтенных пасторов,
интриганы сосланы в другое полушарие,
подделыватели документов спущены с лестниц,
соблазнители девиц спешат к алтарям,
вдовы утешены, сироты не брошены,
гордыня смирена, раны обихожены,
блудные сыновья позваны к столу,
горькая чаша выплеснута в море,
платки мокры от слез примиренья,
повсюду ликованье – музыка и пенье,
а собачка Фидо,
потерявшаяся еще в первой главе,
пускай опять бегает по дому
и радостно тявкает.
Перевод Асара Эппеля
Старый профессор
Спросила его о времени,
когда мы были еще такие молодые,
наивные, запальчивые, глупые, неготовые.
Кое-что, кроме молодости, осталось
– ответил.
Спросила его, по-прежнему ли он знает, что для человечества хорошо, а что плохо.
Самое смертоносное заблуждение из возможных
– ответил.
Спросила его о будущем,
все ли еще оно ему ясно зримо.
Слишком много я прочел исторической литературы
– ответил.
Спросила его о фотографии
в рамке на письменном столе.
Были, сплыли. Брат, кузен, жена брата,
жена, дочка на коленях жены,
кот на руках у дочки
и цветущая черешня, а над черешней
неопознанная летающая птичка
– ответил.
Спросила его, бывает ли он
счастлив.
Работаю
– ответил.
Спросила о друзьях, есть ли они еще.
Несколько бывших моих ассистентов,
у которых уже тоже бывшие ассистенты,
пани Людмила – помощница по дому,
некто очень близкий, но заграницей,
две сотрудницы библиотеки, обе всегда улыбаются,
маленький Юрек из квартиры напротив и Марк Аврелий
– ответил.
Спросила его о здоровье и самочувствии.
Запрещают мне кофе, водку, папиросы,
переносить тяжелые воспоминания и вещи.
Вынужден делать вид, что этого не слышу
– ответил.
Спросила про садик и скамейку в садике.
В ясные вечера наблюдаю небо.
Не устаю удивляться,
сколько там точек зрения
– ответил.
Перевод Асара Эппеля
Перспектива
Разминулись как чужие,
без жеста и слова,
она по дороге в лавку,
он к машине.
Может, в смятенье
или рассеянности,
или позабыв,
что какое-то время
любили друг друга до гроба.
К тому же нет гарантии,
что это были они.
Может, издали так,
а вблизи не совсем.
Я увидела их из окна,
а кто глядит сверху,
скорей всего ошибается.
Она исчезла за стеклянной дверью,
он сел за руль
и уехал.
То есть ничего не произошло,
даже если произошло.
А я, всего лишь мгновенье
уверенная, что видела,
пытаюсь в случайном стихотвореньице
убедить вас, Читателей,
что было это печально.
Перевод Асара Эппеля
Учтивость незрячих
Поэт читает стихи незрячим.
Он и думать не думал, что будет так сложно.
Дрожит его голос.
Дрожат руки.
Поэт чувствует, что каждая фраза
подвержена здесь испытанию тьмой
и должна справляться сама,
неосвещенная, нецветная.
Рискованное приключение
в его строчках для звезд,
зари, облаков, радуги, неоновых реклам, луны,
для рыбы, до сих пор столь серебряной под водою,
и ястреба столь тихо, высоко в поднебесье.
Он читает – потому что поздно уже не читать –
о мальчике в куртке желтой на лужайке зеленой,
о доступных сосчитать их красных кровлях в долине,
о мелькающих номерах на майках игроков
и голой незнакомке в приотворенной двери.
Он бы хотел промолчать – хотя уже невозможно –
святых и блаженных на своде собора,
прощальный взмах в вагонном окошке,
стеклышко микроскопа и лучик в перстне
и экраны и зеркала и альбом с фотографиями.
Но велика учтивость незрячих,
велики снисходительность и великодушие.
Слушают, улыбаются, рукоплещут.
Кто-то даже подходит
с книжкой открытой задом наперед,
прося невидимый для себя автограф.
Перевод Асара Эппеля
Монолог пса, заплутавшего в эпохе
Есть псы и псы. Я избранным был псом.
С отменной родословной и волчьей кровью в жилах.
Я жил на взгорье, чуя носом виды
лугов под солнцем, елей после ливней
и груд земли на прогалинах.
У меня был солидный дом с послушной прислугой.
Меня кормили, мыли, чесали щеткой,
водили на чудесные прогулки.
Но уважительно, без панибратства.
Все понимали, кто я.
Чей я пес.
Любая паршивая дворняга может иметь хозяина.
Но осторожней – никаких сравнений.
Мой был единственный такой на свете.
За ним повсюду следовала стая,
не отстававшая ни на шаг
и взиравшая с опасливым восхищеньем.
Мне же предназначались улыбки
с плохо скрываемой завистью.
Ибо только я имел право
встречать его радостными прыжками,
только я – прощаться, хватая зубами за брюки.
Только мне разрешалось
с головой на его коленях
удостаиваться, чтоб гладил и тормошил уши.
Только я мог притвориться при нем, что сплю,
и тогда он ко мне наклонялся и что-то шептал.
На других он сердился часто и громко.
Рычал на всех, бранился,
бегал от стены к стене.
Думаю, любил он только меня
и больше никогда никого.
Еще мне полагалось: ждать и не сомневаться.
А он ненадолго появлялся и надолго исчезал.
Что его держало в долине, не знаю.
Однако понимаю, что неотложные дела,
столь же, наверно, неотложные,
как для меня перепалки с кошками
и всем, что зачем-то двигается.
Есть разная судьба. Моя вдруг изменилась.
Настала какая-то весна,
а его со мной не было.
Дома поднялась непонятная беготня.
Ящики, чемоданы, сундуки взваливали на машины.
Колеса с визгом съезжали вниз
и умолкали за поворотом.
На террасе горело старье и тряпье,
желтые блузы, повязки с черными знаками
и много, очень много рваных картонок,
из которых повываливались флажки.
Я метался в этой сумятице,
скорее озадаченный, чем злой.
Чувствовал шерстью недобрые взгляды.
Словно был ничьею собакой,
приблудным дармоедом,
которого гонят метлой уже от ступенек.
Кто-то сорвал с меня ошейник с серебряным набором.
Кто-то пнул мою миску, не первый уже день пустую.
А потом кто-то последний, прежде чем отъехать,
высунулся из кабины
и выстрелил в меня два раза.
И даже не сумел попасть куда надо,
потому что я умирал тяжело и долго
в жужжании обнаглевших мух.
Словно был ничьею собакой,
приблудным дармоедом,
которого гонят метлой уже от ступенек.
Кто-то сорвал с меня ошейник с серебряным набором.
Кто-то пнул мою миску, не первый уже день пустую.
А потом кто-то последний, прежде чем отъехать,
высунулся из кабины
и выстрелил в меня два раза.
И даже не сумел попасть куда надо,
потому что я умирал тяжело и долго
в жужжании обнаглевших мух.
Я – пес моего хозяина.
Перевод Асара Эппеля
Беседа с Атропой
Госпожа Атропа?
Верно, это я.
Из трех дочерей Необходимости
у Вас наисквернейшая репутация.
Явное преувеличение, милая моя поэтесса,
Клото прядет нить жизни,
и нить эта непрочная,
ее легко перерезать.
Лахесис отмеряет длину аршином.
Они ведь тоже не малые дети.
Однако ножницы в Ваших руках.
Поскольку в моих, я ими и пользуюсь.
Вижу, что даже сейчас, пока мы беседуем...
Я трудоголик, такая уж у меня натура.
Не чувствуете ли Вы себя усталой, утомленной,
не выспавшейся, скажем, ночью? Нет, неужели нет?
Без отпусков, уик-эндов, празднования праздников,
перерывов на покурить?
Накопилось бы работы, а я этого не люблю.
Непостижимое усердие.
И ниоткуда одобрения,
премий, отличий, кубков, орденов?
Или хотя бы дипломов в рамках?
Как в парикмахерской? Благодарю покорно.
Кто-нибудь Вам помогает? Если да, то кто?
Занятный парадокс - сами же вы, смертные.
Всякие диктаторы, бесчисленные фанатики.
Хотя не я их приневоливаю.
Сами рвутся в дело.
Наверно, и войны должны Вас радовать,
от них ведь значительная подмога.
Радовать ? Не знаю такого чувства.
Не я к ним призываю,
не я руковожу их ходом.
Но признаю: главным образом благодаря им
я есмь всякую минуту.
Не жаль вам нитей, перерезанных слишком коротко?
Слишком коротко, не слишком коротко -
тут разница только для вас.
А если бы кто-то поважней вздумал от Вас избавиться
и отправил на пенсию?
Не поняла. Выражайся яснее.
Спрошу по-другому: есть ли над Вами Начальство?
...Попросила бы следующий вопрос.
Больше вопросов нету.
В таком случае прощайте.
Вернее...
Понятно. Понятно. До свидания.
Перевод Асара Эппеля
Страшный сон поэта
Послушай, что мне приснилось.
С виду всё как у нас.
Под ногами земля, вода, огонь, воздух,
вертикаль, горизонталь, колесо, треугольник,
левая и правая сторона.
Погоды сносные, пейзажи недурные
и множество существ, наделенных речью.
Однако речь не такая, как на земле.
Во фразах преобладает несослагательное наклонение.
Названия точно прилегают к вещам.
Ничего не добавить, не отнять,
не изменить и не переставить.
Время всегда какое на часах.
У прошлого с будущим недолгое дленье.
Для воспоминаний – конкретная минувшая секунда,
для предопределений – другая,
которая как раз наступает.
Слова не нужны. Ни на одно больше чем следует,
а это значит, что нет поэзии,
нет философии и нет религии.
Подобные шалости не принимаются в расчет.
Ничего, что бы можно всего лишь подумать
или с закрытыми глазами увидеть.
Если искать, то лишь то, что явственно рядом.
Если вопрошать, только то, на что есть ответ.
Они очень бы удивились,
если б могли удивиться,
что где-то существуют причины удивляться.
Слово "смятенье" сочтено у них неприличным
и не решилось бы стоять в словаре.
Мир представляется отчетливым,
даже когда не видно ни зги.
Каждому отпускается по доступной цене.
Не отходя от кассы никто не требует сдачи.
Из чувств – удовлетворение. И никаких скобок.
Жизнь с точкой на поводке.
И грохотанье галактик.
Согласись, что ничего хуже
не может случиться поэту.
А потом – ничего лучше,
если быстро проснуться.
Перевод Асара Эппеля
Лабиринт
– а сейчас несколько шагов
от стены к стене,
по тем ступенькам вверх
или по этим вниз;
потом чуть-чуть левей,
если не правей,
от стены между стен
до седьмого порога,
откуда-то куда-то
вплоть до пересеченья,
где выпало сойтись,
чтоб сразу разойтись,
твоим надеждам, ошибкам, промашкам,
попыткам, намерениям и снова надеждам.
Дорога за дорогой,
а обратной нету.
Доступно только то,
что впереди и дальше,
а дальше в утешенье
восемь поворотов,
дивись и удивляйся,
за кулисой кулиса.
Выбрать даже можно,
где быть или не быть,
перескочить, сбочить,
но чтоб не проскочить.
Значит, туда и сюда,
или же вон туда,
по догадке, отгадке,
напрямик, на память,
на как придется,
на путаные перепутья.
Сквозь проходы ворот
в коридорный ход
спешно, ибо во времени
у тебя мало времени,
с места на место
к еще пока отворенным,
где темень и смятенье,
но просвет на свет,
где радость, хоть не в радость,
возле и после,
невесть где, но есть где,
везде и всюду
счастье в несчастье,
словно скобка в скобках,
и все бы разлюбезно,
но внезапно бездна,
бездна, но мосток,
мосток, но шаткий,
шаткий, но единственный,
ибо нет другого.
Ведь вне всяких сомнений
должен быть выход.
Но не ты его ищешь,
он тебя ищет,
это он изначально
за тобой в погоне,
а лабиринт сей
не что иное как только,
только твое, покуда возможно,
твое, пока что твое,
бегство, бегство –
Перевод Асара Эппеля
Небрежение
Неважно я вчера повела себя в космосе.
Прожила целые сутки, ни о чем не спросила,
ничему не удивилась.
Занималась обычными делами,
словно только оно и требовалось.
Вдох, выдох, шаг за шагом, обязанности,
но без мысли, устремленной далее
выхода из дому и прихода домой.
Мир мог быть воспринят как потрясающий,
а я воспользовалась им для заурядного потребления.
Никаких как и почему,
и как он здесь такой оказался,
и зачем ему уйма неугомонных подробностей.
Я была точно гвоздь, слабо вколоченный в стенку,
или
(здесь сравнение, которого не нашлось).
Одна за одной происходили перемены
даже в ограниченном поле мгновения ока.
Рукою на день моложе за столом помоложе
был иначе нарезан вчерашний хлеб.
Тучи – как ни разу и дождь как ни разу,
ибо падал новыми каплями.
Земля обернулась вокруг оси,
но уже в покинутом навсегда пространстве.
Продолжалось это добрых 24 часа.
1440 минут оказии.
86 4оо секунд для ознакомления.
Космический savoir-vivre
хотя насчет нас и помалкивает,
однако чего-то все же добивается:
толики внимания, нескольких фраз Паскаля,
ошеломленного участия в этой
с неведомыми правилами игре.
Перевод Асара Эппеля
Греческая статуя
Усилиями людей и всяческих стихий
над ней досконально поработало время.
Сперва лишило носа, потом гениталий,
потом пальцев рук и стоп,
с годами одного плеча и другого,
ляжки правой и ляжки левой,
спины, головы и ягодиц,
а что отвалилось, смололо в осколки,
в щебень, в гравий, в песок.
Когда таким манером умирают живые,
от каждого удара бывает много крови.
Однако мрамор статуй гибнет белоцветно
и не всегда до конца.
От этой, о которой речь, остался только торс,
весь словно сдерживаемое при усилии дыханье,
ибо должен теперь
взять
на себя
достоинство и красоту
утраченного остального.
Это ему удается,
пока еще удается,
удается и восхищает,
восхищает и длится –
И добрых слов заслуживает время тоже,
ибо приостановило работу,
отложив кое-что на потом.
Перевод Асара Эппеля
Вообще-то любые стихи
Вообще-то любые стихи
могут быть названы "Мгновение".
Довольно одной фразы
во времени настоящем,
бывшем и даже будущем;
довольно, если что-то,
несомое словами,
зашелестит, вспыхнет,
просвищет, проплывет
или же пребудет
вроде бы неизменным,
но с переменчивой тенью;
довольно, если говорится
о ком-то рядом с кем-то
или о ком-то возле чего-то;
про Алю, у которой есть кот
или кота больше нету;
или о других Алях,
котах и не котах
из других букварей,
листаемых ветром;
довольно, если в поле зрения
автор устроит временные горы
и недолговечные долины;
если, воспользовавшись возможностью,
скажет о небе
только с виду вечном и бесконечном;
если объявится под пишущей рукой
хотя бы единственная вещь,
названная чьей-нибудь вещью;
если черным по белому,
или хотя бы в предположении,
по важному или пустому поводу,
поставлены будут знаки вопроса,
а в ответе –
если двоеточие:
Перевод Асара Эппеля
Поэт и мир
Нобелевская лекция 1996 года
Самой трудной, когда произносишь речь, считается первая фраза. У меня это, стало быть, уже позади… Но я чувствую, что и последующие фразы будут непростыми — третья, шестая, десятая, вплоть до последней, ведь я собираюсь говорить о поэзии. На эту тему я высказываюсь редко, крайне редко. И всегда мне сопутствует ощущение, что делаю я это не наилучшим образом. Потому моя речь не будет чересчур длинной. Всякое несовершенство легче стерпеть, если оно преподносится в небольших дозах.
Сегодняшний поэт скептичен и подозрителен даже — а возможно, прежде всего — по отношению к самому себе. Он неохотно вслух называет себя поэтом — словно бы немножечко этого стыдится. В нашу крикливую эпоху куда легче признать собственные недостатки — конечно, если они эффектно выглядят, — чем достоинства, которые глубже спрятаны и в которых мы сами не до конца уверены… В различных анкетах или в беседах со случайными попутчиками, когда поэт вынужден обозначить род своих занятий, он обходится неопределенным «литератор» — или называет свою дополнительную специальность. Сообщение о том, что перед ними поэт, чиновники или пассажиры автобуса принимают с легким недоверием и опаской. Думаю, с подобной реакцией сталкивается и философ. Однако философ все-таки в лучшем положении: он сплошь и рядом имеет возможность украсить свою профессию каким-нибудь ученым званием. Доктор философии — это звучит уже гораздо солидней.
А вот докторов поэзии нет. Будь оно так, профессия «поэт» требовала бы специального образования, регулярной сдачи экзаменов, наличия теоретических трудов, подкрепленных библиографией и сносками, наконец, торжественно вручаемых дипломов. А это, в свою очередь, означало бы, что недостаточно исписанного — пускай прекраснейшими стихами — листка бумаги: чтобы считаться поэтом, нужна — и это необходимое условие — некая бумажка с печатью. Вспомним, что именно из-за отсутствия таковой был отправлен в ссылку будущий лауреат Нобелевской премии, гордость российской поэзии Иосиф Бродский. Его сочли «тунеядцем», поскольку он не имел официального документа, дозволяющего ему быть поэтом…
Несколько лет назад я имела честь и удовольствие познакомиться с Ним лично. Я заметила, что изо всех известных мне стихотворцев он один любил говорить о себе «поэт», произнося это слово без внутреннего сопротивления, даже с какой-то вызывающей свободой. Думаю, потому, что не забыл жестокие унижения, которые претерпел в молодости.
В более счастливых странах, где не так легко попирается человеческое достоинство, поэты, разумеется, мечтают, чтобы их печатали, читали, понимали, но уже не делают ничего — или почти ничего — для того, чтобы в повседневной жизни выделяться среди своего окружения. А ведь ещё так недавно, в первые десятилетия нашего века, поэты любили шокировать публику затейливыми нарядами, эксцентрическим поведением.
Однако это всегда было зрелищем на потребу общественного мнения.
Рано или поздно наступал момент, когда поэт закрывал за собой дверь, сбрасывал все эти пелерины, блестящие украшения и прочие поэтические аксессуары и оказывался в тишине, в ожидании самого себя, наедине с ещё пустым листом бумаги. Потому что, по сути дела, это — главное.
Характерное явление. Снимается много биографических фильмов о великих ученых и великих художниках. Честолюбивые режиссеры ставят перед собой задачу достоверно изобразить творческий процесс, в результате которого были сделаны важные научные открытия или созданы знаменитые произведения искусства. Можно весьма успешно показать работу ученого: лаборатория, разнообразные приборы, действующие механизмы способны на некоторое время приковать внимание зрителей. Кроме того, на экране удается очень драматично представить минуты неуверенности, напряженного ожидания: получится ли повторяемый уже в тысячный раз, только с мелкими изменениями, эксперимент?
Зрелищными могут быть и фильмы о художниках — нетрудно воспроизвести все стадии создания картины, от первого штриха до последнего прикосновения кисти к холсту. Фильмы о композиторах наполнены музыкой — с первых тактов, которые творец слышит в себе, до окончательно созревшего, инструментованного произведения. Все это не более чем наивно и ничего не говорит о том странном состоянии духа, которое принято называть вдохновением, однако зрителю хотя бы есть на что посмотреть и что послушать.
Гораздо хуже обстоит дело с поэтами. Их работа безнадежно нефотогенична. Человек сидит за столом или лежит на диване, уперев неподвижный взгляд в стену или в потолок, время от времени напишет семь строк, одну из которых через четверть часа зачеркнет, и потом ещё целый час ничего не происходит… Какой зритель выдержит подобное?
Я упомянула о вдохновении. На вопрос «что это?» — если это существует, — современные поэты дают уклончивые ответы. Не потому, что никогда не ощутили благодати этого внутреннего импульса.
Причина иная. Нелегко объяснить кому-либо нечто, непонятное самому.
И я, когда меня иногда об этом спрашивают, далеко обхожу суть дела. Я отвечаю так: вдохновение вовсе не исключительная привилегия поэтов или вообще художников. Есть, была и всегда будет определенная категория людей, которых посещает вдохновение. Это все те, кто сознательно выбирает себе занятие и трудится с любовью и с фантазией. Бывают такие врачи, бывают такие учителя, бывают такие садовники; можно перечислить ещё сотню других профессий. Для этих людей работа может стать неизменно увлекательным приключением — если только они не оставят без внимания ни один брошенный ею вызов. Несмотря на трудности, на поражения, их любопытство не иссякает. Каждая решенная проблема влечет за собой целый рой новых вопросов. Вдохновение, чем бы оно ни было, рождается из постоянного «не знаю».
Таких людей не слишком много. Большинство обитателей этой земли работают, чтобы обеспечить себе средства к существованию, работают, потому что должны работать. Не они по велению сердца выбирают работу, за них делают выбор жизненные обстоятельства. Работа нелюбимая, работа скучная, работа, которую ценишь только потому, что даже в такой форме она не всем доступна, — горькая недоля, одна из самых тяжких, какие выпадают человеку. И не похоже, чтобы в ближайшие столетия произошла какая-нибудь счастливая перемена.
Тем не менее прошу обратить внимание, что я, хотя и отнимаю у поэтов монополию на вдохновение, все же помещаю их в немногочисленную группу баловней судьбы.
Но тут у слушателей могут возникнуть сомнения.
Всевозможные палачи, диктаторы, фанатики, демагоги, борющиеся за власть с помощью нескольких — главное, чтобы погромче! — лозунгов, тоже любят свою работу и тоже выполняют её рьяно и изобретательно. Да, но они «знают». Они знают, и того, что знают, им абсолютно достаточно. Ничто сверх уже известного их не интересует, ибо может поколебать их убежденность в собственной правоте. А всякое знание, которое не порождает очередных вопросов, очень быстро умирает, утрачивает необходимый для жизни накал. В самых крайних случаях — чему есть примеры и в древней, и в новейшей истории — оно даже может стать смертельно опасным для общества.
Поэтому я так высоко ценю два коротких слова: «не знаю». Маленьких, но всемогущих. Открывающих для нас пространства, которые спрятаны в нас самих, и пространства, в которых затеряна наша крошечная Земля. Если бы Исаак Ньютон не сказал себе «не знаю», яблоки в его саду могли бы сыпаться градом у него на глазах, а он бы в лучшем случае подбирал их и с аппетитом съедал. Если бы моя соотечественница Мария Склодовская-Кюри не сказала себе «не знаю», она бы, вероятно, преподавала химию в пансионе для благородных девиц, и в этой — вполне достойной — работе прошла бы вся её жизнь. Но она сказала «не знаю», и именно эти слова привели её, притом дважды, в Стокгольм, где людям с неспокойной и вечно ищущей душой вручают Нобелевскую премию.
И поэт, если он настоящий поэт, должен неустанно повторять про себя: «не знаю». Каждым своим стихотворением он пытается что-то объяснить, но едва ставит точку, как его начинают одолевать сомнения, он начинает понимать, что объяснение это недолговечное и неисчерпывающее. И тогда он делает ещё одну попытку и ещё одну, а потом все эти доказательства его недовольства собой историки литературы скрепят огромной скрепкой и назовут «творческим багажом».
Иногда мне представляются совершенно нереальные ситуации. Например, я имею дерзость вообразить, будто у меня появилась возможность побеседовать с Екклесиастом, автором необычайно волнующего плача о тщете любых человеческих начинаний. Я бы низко ему поклонилась, ведь он один из самых важных — по крайней мере, для меня — поэтов. Но потом схватила бы его за руку. «Нет ничего нового под солнцем», — сказано Тобою, Екклесиаст. Но Ты же сам родился новым под солнцем. А поэма, которая сочинена Тобой, тоже новая под солнцем, потому что до Тебя её никто не написал. И новые под солнцем все Твои читатели, ибо до Тебя они не могли её прочесть. И кипарис, в тени которого Ты присел, не растет здесь от сотворения мира. Ему дал начало какой-то другой кипарис, подобный Твоему, но не в точности такой же. А кроме того, позволь спросить у Тебя, Екклесиаст, что нового под солнцем Тебе хочется ещё написать. Нечто такое, что дополнило бы Твои рассуждения, или же Тебя искушает желание кое-какие из них опровергнуть? В уже написанной поэме Ты в числе прочего заметил и радость — пусть преходящую, ну и что с того? Так, может быть, о ней будет Твоя новая под солнцем поэма? Есть уже у Тебя какие-нибудь заметки, предварительные наброски? Не скажешь же Ты, надеюсь: «Я все написал, мне нечего больше добавить». Такого не может сказать ни один поэт на свете, а уж тем паче такой великий, как Ты.
Мир, что бы мы о нем ни подумали, напуганные его необъятностью и собственным перед ним бессилием, обиженные его равнодушием к страданиям отдельных существ — людей, зверей, а может быть, и растений, ибо откуда эта уверенность, что растения избавлены от страданий; что бы мы ни подумали о его пространствах, пронизанных излучением звезд, звезд, вокруг которых мало-помалу открывают какие-то планеты — уже мертвые? ещё мертвые? — неизвестно; что бы мы ни сказали о том вселенском театре, куда у нас, правда, есть билет, но действителен он до смешного короткое время, ограниченное двумя заданными датами; что бы мы ни подумали об этом мире — он удивителен.
Но в определении «удивительный» скрывается некая логическая ловушка. Ведь обычно нас удивляет то, что отступает от известной и общепризнанной нормы, не укладывается в некую очевидность, к которой мы привыкли. Так вот, такого очевидного мира просто нет. Наше удивление возникает самопроизвольно и не вытекает из сравнений с чем бы то ни было.
Согласна, в бытовой речи, не заставляющей нас задумываться над каждым словом, мы широко пользуемся определениями «обычная жизнь», «обычный мир», «обычный порядок вещей»… Однако в поэзии, где взвешивается каждое слово, ничто не является обычным и нормальным. Ни один холм и ни одно облако над ним. Ни один день и ни одна наступающая за ним ночь. И главное — ничье существование на этом свете.
Похоже, что у поэтов всегда будет много работы.
Перевод с польского Ксении Старосельской
От переводчика
Виславу Шимборскую не нужно представлять постоянному — особенно давнишнему — читателю нашего журнала: он знаком с ней ровно тридцать лет. Впервые её стихи появились в «Иностранной литературе» в 1967 году — перевел их Асар Эппель. А в 1973-м она вместе со своим, ныне покойным, мужем, прекрасным прозаиком Корнелем Филиповичем, была гостем редакции, после чего журнал опубликовал запись беседы с польскими писателями. Во время этой встречи и была сделана фотография, которая сейчас перед вами. Впоследствии стихи Шимборской печатались в «ИЛ» в 1974, 1978 (также в переводах А.Эппеля) и в 1994 годах (в переводах Натальи Астафьевой). Надо сказать, что опубликовать Шимборскую в 70-х годах было далеко не просто: её фамилия числилась в «черных» списках, которыми услужливые «польские друзья» снабжали посольство СССР и которые затем попадали к «кураторам» культуры. Переводчику и редакторам журнала приходилось проявлять большую настойчивость и отвагу, а то и хитрить, чтобы «протащить» в номер стихи неблагонадежного автора.
И сейчас редакция с удовольствием присоединяет свой голос к хору поздравивших новую Нобелевскую лауреатку почитателей её таланта. Мы вспоминаем, какую высокую оценку дала Шимборской переводившая её Анна Ахматова, отмечавшая зрелость мысли и отточенность стиля поэтессы; нам хочется процитировать прошлогоднего лауреата Нобелевской премии ирландца Шеймаса Хини, который в ответ на вопрос, знает ли он, кто получил эту премию в 1996 году, воскликнул: «Вислава, это прекрасно! Потрясающе, что „Нобеля“ получила поэтесса, которую я так высоко ценю. /…/ Шимборская — как Беккет — останется свободной. Как и он, она будет по-прежнему следовать за той тоненькой стрелкой компаса, которая у нее в голове, и, полагаю, ничто не собьет её с этого пути»; мы согласны с Чеславом Милошем, ещё одним польским лауреатом Нобелевской премии, который сказал, что присужденная Шимборской награда — подтверждение высокой позиции польской поэзии в мире; и с Иосифом Бродским, который включил бы «Конец и начало» Шимборской в антологию ста лучших стихотворений XX века.
Мы надеемся, что впредь ещё не раз предоставим читателю возможность познакомиться с новыми стихами и эссе замечательной поэтессы, умнейшего, тонкого и обаятельного человека.
Литературная почта, или Как стать/не стать писателем (фрагменты)
Вместо предисловия
Из беседы критика и литературоведа Тересы Валяс с Виславой Шимборской
Тереса Валяс. Кто в «Жицелитерацке» придумал «Почту»?
Вислава Шимборская. Придумывать ничего не понадобилось. Это давняя традиция, практиковавшаяся в литературных журналах. Как отвечать автору, в особенности начинающему? Не писать же всем подробные письма. Обычно ограничиваются кратким «не можем опубликовать» или «советуем ещё поработать». Мы сочли, что иногда следует наши решения обосновывать. <…>
Т. В. Отвергая то или иное произведение и, вероятно, представляя себе беззащитного, дрожащего автора, ты никогда не чувствовала себя бессердечной?
В. Ш. Бессердечной? Да я сама начинала с плохих стихов и плохих рассказов. И знаю, что ушат холодной воды на голову — отличное терапевтическое средство. А вот когда особа, именующая себя педагогом, пишет «сровнение», я становлюсь безжалостной.
Т. В. Ну, это просто безграмотность и к искусству отношения не имеет.
В. Ш. На уровне «Почты» об искусстве речи не шло. Я старалась объяснять элементарные вещи, советовала хорошенько обдумывать то, что пишешь, относиться к себе хоть мало—мальски критически. Наконец, призывала читать книги. Возможно, я ошибаюсь, но, хочется надеяться, кое у кого эта прекрасная привычка останется на всю жизнь. <…>
Т. В. Ты всегда была уверена в правильности своих оценок?
В. Ш. Не всегда — только в случаях ярко выраженной графомании.
Т. В. Графомания — жестокое слово. Не знаю, приходило ли тебе в голову, что в других сферах человеческой деятельности нет столь негативных оценочных понятий. «Халтурщик», например, тоже звучит обидно, но ему далеко до «графомана». Плохой столяр, плохой сантехник, часовщик-недоучка живут себе преспокойно, и никто не ставит на них клеймо. Нападкам подвергаются главным образом писатели-неудачники. И ещё, пожалуй, незадачливые любовники: «импотент» не менее оскорбителен, чем «графоман».
В. Ш. Да, но графоман — в своей области — может! Много может, слишком много! Впрочем, если не ошибаюсь, в «Почте» я никого не называла графоманом. Просто старалась направить повышенную писательскую активность в другое русло. Например, рекомендовала писать письма, вести дневник или сочинять для близких стишки на случай. <…>
Т. В. Читая «Почту», я подумала: мало кто находит в себе мужество сказать начинающему писателю, что нужно обладать талантом, — ты одна из немногих. Серьезные критики сейчас неохотно употребляют это слово.
В. Ш. И, наверно, правильно делают: талант — понятие, не поддающееся научному определению. Хотя это не означает, что то, чему нельзя дать точное определение, не существует. Но я не критик и могу позволить себе некоторую свободу высказываний. Талант… У одного он есть, у другого нет, и все тут. Из чего, впрочем, не следует, что последний — неудачник. Возможно, он станет выдающимся биохимиком или откроет Северный полюс.
Т. В. Насколько я помню, Северный полюс давно открыт.
В. Ш. Верно, это я маху дала. Хотела сказать, что таланты встречаются не только в литературе, но и в любых других областях. <…>
Т. В. Скажи, а с каким чувством ты сейчас перечитывала «Почту»?
В. Ш. Мне она показалась скорее забавной, чем полезной с дидактической точки зрения. И ответственность за это лежит в значительной степени на мне.
Октябрь 2000
Наблюдателю. Вы обвиняете нас в том, что мы безжалостны к юным дарованиям. «Эти хилые растеньица нужно холить и лелеять, а не критиковать за слабость и неспособность плодоносить, как это делаете Вы». Мы против теплиц. Литературные дарования должны произрастать в естественных климатических условиях и уметь к ним приспосабливаться. Иногда растеньицу кажется, что оно станет дубом, а мы видим, что это обыкновенная травка, которая даже при самом заботливом уходе не превратится в дуб. Конечно, иной раз нам случается ошибаться. Но ведь расти мы этим травкам не запрещаем, не вырываем их с корнем. Пусть растут и когда-нибудь докажут, что мы были неправы, — мы охотно признаем свое поражение. Впрочем, если б Вы с меньшей предвзятостью читали эту нашу рубрику, могли бы заметить: мы хвалим все, что того заслуживает. И не наша вина, если хвалим не часто. Литературный талант — вещь штучная.
Кристине Е. Дорогая пани К. Е., мы идеи не покупаем и не продаем. Как и не служим посредниками при купле-продаже. Один только раз — по доброте душевной и совершенно бескорыстно — попытались подсунуть своему знакомому идею романа — о торговце, который сам себя взорвал. Но наш знакомый счел эту идею экстравагантной и заявил, что она обречена на провал. С тех пор, почувствовав себя посрамленными, мы ничего подобного себе не позволяем.
Супругам Магро. Уважаемые господа, Вы слишком многого от нас требуете. Вы оба пишете стихи и во что бы то ни стало хотите узнать, кто пишет лучше. Мы предпочитаем в Вашу жизнь не вмешиваться, тем более что в письме нас испугала фраза «От этого многое зависит…» Соперничество в семейной жизни заканчивается хорошо только в кинокомедиях. Да и стиль у Вас обоих примерно одинаковый, поэтому разобраться трудно. Будучи горячими сторонниками нерушимости домашнего очага, мы этим соломоновым решением ограничиваемся.
ОЛ. Если Вам не хватает мужества прийти к нам и поговорить о Ваших стихах, приходите без мужества. Несмелых мы принимаем очень тепло. Как правило, они предъявляют к себе более высокие требования, проявляют больше упорства и энергичнее шевелят мозгами, чем смельчаки. Качества эти сами по себе ещё ничего не означают, но при наличии врожденных способностей оказывают их владельцу неоценимую услугу — превращают способности в талант. Фрак для визита не потребуется — редакция принимает посетителей в дневные часы!
П. З. В. «Либо подарите надежду на публикацию, либо, на худой конец, утешьте…» Ознакомившись с Вашими стихами, мы остановились на втором. Итак, внимание: утешаем. Ваша участь прекрасна: Вы станете читателем, притом наивысшей категории, — читателем бескорыстным. С литературой у Вас сложатся любовные отношения, в которых преимущество окажется на Вашей стороне: не Вы, а Вас станут завоевывать. Вы будете читать разные разности ради чистого удовольствия. Не выискивая у автора «приемов», не раздумывая, можно ли то или сё написать лучше либо так же хорошо, как он, но иначе. Не испытывая зависти, не впадая в депрессию, не страдая подозрительностью, свойственной читателю, который сам занимается сочинительством. Данте для Вас будет Данте, независимо от того, была или не была у него «рука» в издательстве. По ночам Вас не будет терзать вопрос, почему Икса, который не умеет рифмовать, напечатали, а про мои стихи, хотя я все зарифмовал и на пальцах подсчитал слоги, ни словечка не написали. Вам (почти) плевать будет на кислые физиономии редакторов и чинимые издателями преграды. А вот ещё одна немалая корысть: писатель легко может прослыть «неудачником», а про читателя такого не услышишь. Конечно, существует целая рать любителей чтения, у которых отношения с книгой не складываются (Вы, естественно, не из их числа), но им это особо жизни не портит, а вот если человек пишет, но получается у него неважнецки, все вокруг сразу начинают качать головой и вздыхать. Даже на поддержку своей девушки не очень-то можно рассчитывать. Ну как? Почувствовали, что Вы кум королю? Надеюсь, да.
Халине В. Вынуждены Вам сказать нечто весьма неприятное: Вы слишком простодушны и чистосердечны, чтобы хорошо писать. В недрах души талантливого писателя полно разных демонов. И даже если эти демоны (как им и положено) дремлют перед тем, как он взялся за перо, и после того, как поставил точку, то в процессе сочинительства они развивают бурную деятельность. Без их помощи автор не мог бы изобразить сложный внутренний мир своих героев. «Ничто человеческое мне не чуждо» — ох, эта сентенция не о безгрешных. С уважением…
Уле. Определить, что такое поэзия, одной фразой? Хм… Нам известны по меньшей мере пять сотен определений, но ни одно из них не кажется достаточно точным и емким. Вдобавок каждое отражает дух только своей эпохи. Врожденный скептицизм не позволяет нам придумывать собственное определение. Зато мы запомнили замечательный афоризм Карла Сэндберга: «Поэзия — это дневник, который пишет морское животное, живущее на суше и мечтающее о полетах». Сгодится на первое время?
Хелиодору. Вы пишете:«Знаю, стихи у меня местами слабые, но что поделаешь, больше ничего исправлять я уже не буду». А, собственно, почему, уважаемый Хелиодор? Не потому ли, что поэзия — это святое? А может быть, потому, что не заслуживает серьезного отношения? И то, и другое ошибочно, хуже того: избавляет начинающих поэтов от обязанности трудиться. Сладко и приятно говорить знакомым, что в пятницу в 0.45 на тебя снизошло озарение и незримый дух принялся нашептывать тебе на ухо тайные истины с таким жаром, что только успевай записывать. Даже великим поэтам случалось рассказывать подобные байки ошеломленным друзьям. Но дома, украдкой, они не жалея сил эти самые потусторонние диктанты исправляли, черкали, переделывали. Духи духами, но и у поэзии есть свои прозаические стороны.
К. К. Нам очень неприятно без конца повторять: незрело, банально, бесформенно… Но ведь наша рубрика — не для нобелевских лауреатов, а для тех, кто лишь со временем сошьет себе фрак для поездки в Стокгольм. Нас огорчает, что Вы полагаете, будто свободный белый стих освобождает от всяческих рамок. Вы небрежно набрасываете строчки, которые затем ломаете, и переставляете слова в произвольном порядке: это — налево, это — направо. Поэзия (как бы ещё мы её ни определяли) есть, была и будет игрой, а игр без правил не существует. Это знают все дети, почему же взрослые забывают?
Ч. Б. Дорогой Чесек, нам было страшно интересно, кто же преступник, — Ты до самого конца держал нас в напряжении. И вдруг сам покойник встает из гроба и указывает на убийцу! Вот это да, вот это сюрприз! Что бы Ты нам впредь ни прислал, мы все прочтем с живым интересом. Но серьезной оценки Тебе придется ещё пару лет подождать, ибо все указывает на то, что Ты не очень давно появился на свет божий. Вскоре Ты убедишься, что не только Агата сочиняет истории, от которых захватывает дух, но и господин Гомер, господин Шекспир, господин Достоевский, ещё кое-кто. С наилучшими пожеланиями…
М. О. «Прощание с летом выплывает будто белые перси из туники, сколотой изумрудом…» Возникает много вопросов: почему будто перси? почему обязательно белые? почему выплывает? почему из туники? Дальнейшее не разрешает наших сомнений. Зато в конце появляется Адам, обольщаемый змеем… Ход смелый, но вряд ли это открытие укоренится в человеческом сознании. Люди с большим удовольствием приняли к сведению, что во всем виновата Ева.
ЯнушуБрт. Почему в Ваших стихах Изида мечется по двору, не зная, к чему приложить руки? Почему Наполеон падает, пронзенный копьем? Почему колоннаразлетается вдребезги как кипяток, а фуга обагряет кровью глыбу ожидания?
Полоний бы сказал, что в этом безумии нет последовательности. Речь естественно идет о беседе Полония с капитаном Куком, когда они вместе отправились по грибы.
КамиллеВ. Что разделяет людей? Незримая стена. С чем надлежит сравнить большой город? С ульем либо с джунглями. Что можно сказать о пустоте? Что она бесплодна. Что происходит с натянутой струной? Разумеется, она лопается. Что разочаровало редактора? Вот это.
Эл. М. Т. Пятистраничная поэма под названием «Поэт» литературными достоинствами не обладает, однако является любопытным примером довольно распространенной легенды о поэте как любимце муз, путь которого усеян розами и которому принадлежат все сокровища мира. Пани Эля, где Вы такого видели? Сообщите, пожалуйста, фамилию и адрес этого полубога. Мы хотели бы узнать, какое издательство платит ему чистым золотом за строчку, кто неустанно осыпает его цветами и как он ухитряется видеть исключительно сладкие сны? Известным нам поэтам чего только не снится, кроме того, у них иногда болят зубы, они частенько страдают от безденежья и жизнь далеко не всегда им улыбается. На чью-то долю конечно выпадают маленькие радости, но не сказать, чтобы беспрестанно.
Роб. И. Нет, нет, нет, никто не пишет «для себя», вы глубоко заблуждаетесь. Всё, начиная с надписи мелом на стене «Йоськабалван» и кончая «Иосифом и его братьями», родилось из неодолимого желания навязать другим свои мысли. «Для себя» мы записываем разве что адреса в записную книжку, а если хватает духу, то ещё и сколько кому должны.
В. и К. В ответ на просьбу разрешить спор о том, чем освещать клуб во время авторских вечеров — лампочками или свечами, — заявляем, что мы предпочитаем лампочки. Настроение — штука хорошая, но свечи кажутся нам слишком претенциозными и наводят на мысль о пресыщенности цивилизацией, чего у нас в Польше пока ещё не наблюдается. Кроме того, автор не только беседует со слушателями, но и читает, а поди найди при таком освещении нужную строчку. Не говоря о том, что лик автора, освещаемый снизу свечой, — это уже личина классового врага из румынских фильмов. Искренне желаем Вам обеим всего наилучшего.
М-Л. Мы не намерены заводить постоянную рубрику для произведений на эсперанто. Это искусственный, лишенный социальной окраски язык, на котором никто не думает и которым не пользуются в быту. Так что мы не считаем произведения, написанные на этом языке, жизненно необходимыми, однако разделяем Вашу мечту о едином языке человечества. И надеемся, что когда-нибудь таковой возникнет в результате мирной (дай-то бог!) эволюции всех языков. Однако не отсутствие общего языка — причина войн. Подтверждением тому служит история и повседневный опыт. Вот Вам пример: в данную минуту в подворотне А. лупит по голове Б., хотя их объединяет родной польский язык.
Л. И. П. Уже на следующий день после кончины знаменитого человека нам начинают присылать стихи, посвященные его памяти. С одной стороны, это трогательно, ибо свидетельствует об эмоциональности авторов, но, с другой, возникают сомнения в художественной ценности написанного. Торопливость, за крайне редкими исключениями, рождает полуфабрикаты. Что в первую очередь просится на бумагу? То, что под рукой, а под рукой главным образом банальности, затертые метафоры и расхожий пафос. Искренний порыв пропадает втуне, если выражается в штампе. А штамп, как правило, выглядит так: «Ты ушел, тебя уже нет с нами, но, хотя тебя нет, творения твои будут жить». Весьма популярный прием — обращаться к усопшему по имени и на «ты». Как будто смерть — разновидность брудершафта. В связи со смертью Ксаверия Дуниковского мы получили уже немало посвященных ему стихов. Все, запросто называя покойного Ксаверием, уведомляют его, что он был и останется великим скульптором. Не лучше ли отнестись к стихотворению как к скульптуре и немножко помучиться, пока мысль не обретет законченную и неповторимую форму?
Томашу К. «Случайно написал двадцать стихотворений. Хотел бы увидеть их напечатанными…» К сожалению, прав был великий Пастер, говоря, что случай благосклонен лишь к подготовленным умам. Муза застала Вас в духовном дезабилье.
Э. Ц. «Тоскую по жизни, хоть жить не умеем (не умею), / Тоскую по пиву, хоть пить не умеем (не умею)»… Варианты, приведенные в скобках, кажутся нам менее удачными.
Т. К. Рассказ может, в крайнем случае, не иметь начала и конца, но середина, по нашему мнению, должна быть обязательно.
Хонорате О. «О, Кихотполоумный с одиночеством-катом, и в объятьях Офелии ты будешь мне братом!.." Как бы только этому не воспротивилась Телимена, похищенная Фаустом и увезенная им в Трою!
А. К. «Наш остров овевает циклоп страсти…» Страшновато, но все же лучше, чем если бы это был одноглазый циклон.
Люде. Да, Элюар действительно не умел писать по-польски, но надо ли, переводя его стихи, так уж это подчеркивать?
Маркусу. В первой части поэмы плохая женщина вырывает из груди героя окровавленное сердце и выбрасывает на помойку, где его пожирает крыса. Ближе к финалу герой признается этой же самой женщине, что сердце его бьется только ради нее. Запасное сердце — случай чрезвычайно редкий. Будем надеяться, это вызовет интерес в научном мире.
Пегасу. Вы в стихотворной форме спрашиваете, есть ли у жизни смысел. Орфографический словарь дает отрицательный ответ.
Малине З. «Меняйте, что хотите, только опубликуйте!» Мы произвели основательные изменения — получились «Лозаннские лирические миниатюры», к сожалению, уже опубликованные.
Перевод Ксении Старосельской
Мгновение
Иду по зеленому склону.
Трава, в траве цветочки —
точь-в-точь картинка из дошкольной книжки.
Серое уже голубеющее небо.
Прочие взгорья простерлись в тишине.
Словно не было тут кембриев и силуриев,
скал, скалившихся друг на друга,
разверзающихся пучин,
огнепламенных ночей,
дней в клублениях тьмы.
Словно не елозили тут низины
в горячечном бреду,
в стылых содроганиях.
Словно не тут,
раздирая берега горизонтов,
метались моря.
Сейчас девять тридцать по местному времени.
Всё на своих местах притом в добрососедстве.
В ложбинке ручеек собой как ручеек.
Тропинка как тропинка от всегда до всегда.
Лес видом лес и присно, и аминь,
Летают птицы как летают птицы.
Куда ни глянь господствует мгновенье.
Из самых из земных,
благоволимых длиться.
Перевод Асара Эппеля