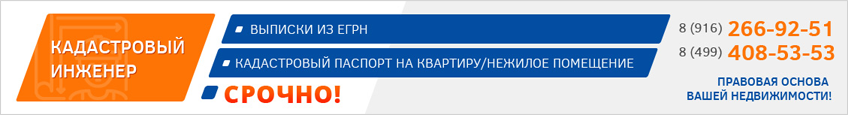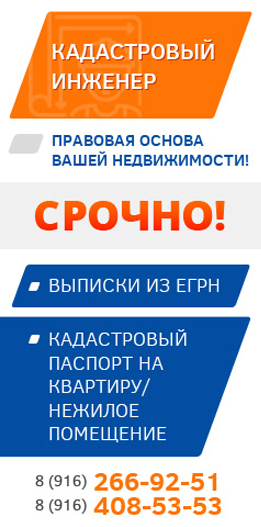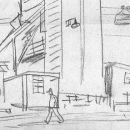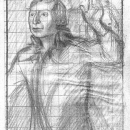17 марта 2013
Гончаров Андрей Дмитриевич. Рисунок. Andrei Goncharov. Автор: Ивасив Александр Иванович
(в альбоме 49 файлов)
Изобразительное искусство / Графика / Рисунок
Разместил: Ивасив Александр
Гончаров Андрей Дмитриевич. Рисунок
Andrei Goncharov
(1903 - 1979)
Дмитрий Бисти
АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ – ЧЕЛОВЕК, ХУДОЖНИК, МАСТЕР
Думая об Андрее Дмитриевиче Гончарове, замечательном мастере, вспоминаешь людей его поколения, воспитанных послеоктябрьской эпохой. Отличительной чертой людей этого времени была постоянная устремленность в будущее (сейчас люди, как правило, живут сегодняшним днем). Твердая убежденность, широта взглядов были их неотъемлемыми свойствами. В окружение художника входили Александр Дейнека, Юрий Пименов, Сергей Урусевский, Сергей Образцов, работавшие в разных видах искусства. Крупной личностью, по-настоящему интеллигентным человеком являлся и сам Гончаров – в творчестве, в жизни. Одна из главных причин этого – постоянное самовоспитание, которое было характерно для Гончарова. Ведь он всю жизнь занимался самоусовершенствованием. Именно этим, на мой взгляд, и объясняется поразительная цельность его натуры. Цельностью объясняется и известная противоречивость, которую порой можно было усмотреть в его поступках и оценках. Например, когда дело касалось его друзей, его интересов, он был мягким человеком. Но бывал и жестким, и непримиримым, когда речь шла об общественной позиции и особенно взглядах на искусство. Эта непримиримость, я назвал бы ее «принципиальной непримиримостью», сказывалась во всем – даже в его образе жизни.
Масштаб гончаровского дарования определил круг увлечений художника: он стал талантливым графиком, живописцем, монументалистом, сценографом. Но наивысшие успехи выпали на его долю в графике, точнее – в книжной графике, в гравюре. Творческая деятельность и принципы, им исповедуемые, становятся понятны, если вспомнить о школе, которую он прошел. Будучи гимназистом, учился в частных студиях К.Юона и И. Машкова; затем в Высших художественно-технических мастерских, и его учителями были тот же И.Машков, А.Шевченко, В.Фаворский. Они дали серьезные профессиональные знания, привили этические принципы, необходимые каждому честному художнику.
Впервые я увидел Андрея Дмитриевича, когда учился на первом курсе Полиграфического института, на встрече со студентами – он показывал свои работы, много рассказывал. После этой встречи П.Захаров уговорил его прийти преподавать, и зимой 1948 года Гончаров начал вести занятия на втором курсе. Наше знакомство состоялось в скором времени, причем при довольно необычных обстоятельствах – со стычки.
В институте выходила сатирическая стенгазета, которая называлась «Канонада». На ее основе мы организовали клуб выходного дня – по субботам устраивали сатирические вечера, пользовавшиеся большой популярностью. На одном из таких вечеров, при большом стечении народа, Андрей Дмитриевич выступил с очень резкой критикой по адресу «Канонады» и организаторов клуба. Что ему не понравилось, сейчас точно не помню. После выступления студенты стали задавать Гончарову каверзные вопросы, существо которых сводилось к следующему: вы нас ругаете, а сами-то что умеете, что и как преподаете? Андрей Дмитриевич очень остроумно отбивался, но ушел разъяренным.
Увлекшись этой «полемикой», я написал для институтской газеты-многотиражки большую статью на целую полосу, – самое удивительное, что ее напечатали. Там я подверг «критике» преподавание рисунка и живописи на нашем факультете, называя имена всех, в том числе и Гончарова. Статья была довольно злая и, как я теперь понимаю, несправедливая. Меня вызвали на заседание кафедры и выругали за то, что я написал. Гончаров очень точно и логично обосновал свою позицию.
У меня был и товарищ, выступивший соавтором статьи, хотя он лишь присутствовал при ее написании. После кафедры я почувствовал, что Гончаров не держит на меня никакого зла. А на моего товарища очень разозлился. Только потом, спустя какое-то время, я спросил:
– Андрей Дмитриевич, а почему Вы со мной сохранили хорошие отношения, а с моим товарищем – нет?
– Очень просто. Я же знал, что он ничего не писал. Терпеть не могу захребетников и прихлебателей.
Меня это тогда поразило.
Так произошло мое первое соприкосновение с Гончаровым – на странной и не очень приятной почве. Тем не менее я понял, что единственный человек, с которым в институте можно всерьез разговаривать, у кого можно всерьез учиться, кто может стать примером, – это Гончаров. Может быть, не будь этого глупого случая со статьей, наши отношения сложились бы совсем иначе: ведь человек не во всякой ситуации и не всегда сразу раскрывается.
В нашей группе Гончаров начал преподавать с четвертого курса, и полтора года я учился непосредственно у него. Это было, по-моему, самое золотое время в моей жизни. Андрей Дмитриевич никогда не говорил о том, как нарисовать, что сделать. Разговоры на занятиях шли совсем иначе – об искусстве вообще. Он мог очень долго беседовать с нами, скажем, о Делакруа или о проблемах, казалось бы, никакого отношения к искусству не имеющих, например, о достижениях современной науки. Только потом я понял, в чем тут дело, и сейчас пытаюсь следовать его методу.
Гончаров прежде всего старался воспитывать в студентах человеческие качества, воспитывать интеллигентных людей. Самое главное – не обучение «на художника», а воспитание художника. Много позже он говорил мне: «Если у человека не будет нравственной основы и культуры, художником он не станет, как бы я его не научил рисовать». Так и было в действительности: из тех, кто не захотел воспринять от Гончарова нравственное воспитание, художников не получилось. Я думаю, что именно отсутствие нравственной основы является причиной обилия «серых» работ на современных выставках. Казалось бы, все умеет человек: и краску положить в «нужное» место, и линию провести, а все-таки искусства нет.
Высокие требования, которые Гончаров предъявлял к художнику, отразились и в том, что как педагог он терпеть не мог иметь дело с посредственностями. Иногда говорят, что в институте у него были любимчики и нелюбимчики. Это неверное представление, просто он обращал внимание на талант и способности студента, для него проявление личности было чрезвычайно важно. И он не замечал середнячков совершенно. Я как-то ему сказал:
– Андрей Дмитриевич, нехорошо – студенты есть студенты, и все равны. Он ответил:
– Ну а что? Все равно из них толку никакого не будет. Так лучше я буду обращать внимание на талантливых, умных, желающих чему-то научиться, проявляющих себя достаточно ярко.
Хотя за тридцать лет нашей дружбы мы встречались с Гончаровым очень часто, с внешней, событийной стороны эти встречи не были ничем примечательны. Как любому человеку, живущему богатой, интенсивной внутренней жизнью, Андрею Дмитриевичу не были нужны внешние проявления. В памяти остались наши беседы, споры, его суждения, оценки.
Одной из самых ярких черт личности Гончарова была любовь к жизни, к любым, даже самым, казалось бы, незначительным ее моментам. Этим он был похож на Пикассо, для которого в жизни не было мелочей, – он мог восхищаться и спичечной коробкой, и прекрасными цветами. Есть одна интересная фотография Пикассо, снятая, по-моему, в Антибе. Пикассо стоит на пляже, как всегда, в шортах, держит в руках богомола и любуется им. Глаза сверкают – он видит чудо природы, чудо жизни.
Андрей Дмитриевич тоже мог мгновенно загореться, увидев что-нибудь красивое и интересное. Для него не существовало предмета или человека, который ему не был бы интересен.
Однако, как это ни парадоксально, при таком обостренном интересе к жизни Гончаров не любил путешествовать. Даже поездка на дачу была для него целым событием. Правда, он несколько раз ездил за границу – туристом в Италию, Францию, Англию. Были и деловые командировки в Лейпциг, Брно. Но при разговорах с ним всегда возникало ощущение, что человек объездил весь мир.
Не так давно мы разговаривали об Андрее Дмитриевиче с Вернером Клемке (они хорошо знали друг друга). И Клемке мне сказал:
– Вот Гончаров... Я из Берлина никуда не выезжаю, а Гончаров объездил весь свет и все знал!
– Да он неохотно выходил из дома.
– Как? Он мне рассказывал про Мексику.
– Он не был в Мексике!
– Не может этого быть!
Гончаров обладал поразительной памятью – не только зрительной, но и, если можно сказать, литературной. Причем он воспринимал прочитанное образно. Наверное, кто-то, путешествующий по Мексике, написал книгу, а Андрей Дмитриевич прочитал и представил себе эту страну очень ярко, и смог рассказать о ней так, что собеседник остался в полной уверенности, что Гончаров действительно побывал там.
Обычно люди бывают или рациональными, или, наоборот, эмоциональными. У Гончарова большой ум, образованность гармонично сочетались с эмоциональным началом. Он не мог быть равнодушным, не мог быть холодным, даже мельчайшие бытовые вещи воспринимал очень эмоционально. Он прожил всю жизнь в напряжении – творческом, волевом, чего бы это ни касалось: искусства или домашних дел, преподавания или выступлений. Поэтому он и был активен в жизни, принимал участие в разных конкурсах, ездил за границу работать в жюри, причем даже когда был уже серьезно болен. Его все интересовало. И когда он возвращался откуда-нибудь, например, из Лейпцига, то замечательно рассказывал о том, что там видел, с кем общался, какие там были идеи, мысли и т.д.
Говорил Гончаров блистательно: на вернисаже, на конкурсе, на дискуссии, в кругу близких людей. Когда он выступал, его можно было заслушаться – не только потому, что он говорил, а и от того, как говорил. Он был великолепный оратор, умевший интересно говорить, увлекая за собой слушателей.
Однако иногда эмоциональное начало брало верх над рациональным, и Андрей Дмитриевич, человек умный, со своим характером и творческими взглядами, увлекшись захватившей его идеей, подпадал под чужое влияние.
Однажды на художественном совете в издательстве «Художественная литература» мы с ним поспорили так, что потом два года не здоровались. А.Васин показывал свою работу: цветные иллюстрации к произведениям Б.Шоу, довольно любопытные. Как всегда, очень лаконичные, но несколько поверхностные. Андрей Дмитриевич, посмотрев: «Это никуда не годится». Как? Ведь только что все в один голос говорили самые лестные слова. Я молчал: меня эти листы не тронули, хотя это и красивые вещи. И вдруг Андрей Дмитриевич возмутился:
– Что вы тут нарисовали? А где костюмы той эпохи? Даже пуговицы надо рисовать точно.
Я говорю:
– Андрей Дмитриевич, это же не этнографические вещи, и вообще эту сторону можно даже игнорировать, одеть персонажей в современные костюмы. Важен образ.
– Что вы мне говорите?! Это тоже важно!
Тут мы с ним и поссорились, ибо он высказал такую идею: «Все книги – это по существу справочники. Читаете ли вы Шекспира или Блока – это справочники по эпохе, по времени». Разгорелся грандиозный спор, в результате которого он ушел, хлопнув дверью. Сказал, что его никто не понимает. Но где ж тут понимать?! Совет на этом закончился. Я вышел на улицу и увидел Андрея Дмитриевича. Он смотрит на меня и говорит:
– Я не желаю с вами больше общаться. Вы перестали меня понимать, не хотите меня понимать.
– Но, Андрей Дмитриевич, вас занесло куда-то, может быть поэтому я вас и не понимаю.
– Куда бы меня ни заносило, больше не желаю знаться. До свидания.
И мы разошлись в разные стороны. Два года не здоровались, проходя мимо. Потом как-то я встретился с ним и сказал:
– Андрей Дмитриевич, сколько же мы будем друг на друга дуться? Может быть, у вас уже прошел тот период, когда вы все книги называли справочниками и призывали рисовать пуговицы, а не образы? Это же вам не свойственно.
– Это тоже надо делать.
– Да. Тоже надо, я согласен. Но не это главное.
Короче говоря, произошло примирение.
Странная, казалось бы, для Гончарова идея, приведшая к нашей ссоре, была результатом, мне кажется, влияния его учеников, В.Ляхова и, как это ни странно, Е.Адамова, преподавателей Московского полиграфического института, считавших чуть ли не единственным способом оформления книг сугубо типографские средства. Гончаров увлекся и этой весьма спорной идеей. Ему показалось, что в ней есть что-то интересное, важное и нужное.
При огромном интересе к жизни и людям Гончаров предъявлял очень высокие требования к общению и далеко не всех принимал у себя. К нему часто обращались с просьбой: «Можно к вам прийти? Мне бы хотелось...» Но он прямо отвечал: «Нет, нельзя». В то же время его дом в любой момент был открыт для людей, ему внутренне близких. Единственное, надо было быть строго точным: если договорились, что придешь в двенадцать, то ровно в двенадцать – не в пять минут первого. Никакие оправдания не принимались.
В середине 1960-х годов мы вместе с Гончаровым иллюстрировали для издательства «Правда» собрания сочинений Сервантеса и Мериме. Мы распределяли между собой произведения, я придумывал конструкцию книги и приходил к нему. Мы обсуждали ее, делали эскизы иллюстраций, потом каждый работал сам. Он никогда не вмешивался в мою работу и, если у него и возникали какие-то замечания, не стремился настоять на своем.
После того, как были готовы гравюры к одному из этих изданий, надо было сделать переплет и элементы оформления. Гончаров сказал:
– Делайте как хотите, но только, прежде чем показывать в издательстве, обязательно покажите мне.
– Хорошо, Андрей Дмитриевич, у меня уже все продумано, я завтра приду.
Но я не пришел и совершенно выпустил из головы, что надо предупредить по телефону Андрея Дмитриевича. Это было непростительно. Когда я через день ему позвонил, он холодно ответил: «Хорошо, приезжайте». Я пришел. Он: «М-да, м-да, м-да». Я говорю:
– Андрей Дмитриевич, вы можете все-таки что-нибудь сказать мне?
-Нет, вчера мог, а сегодня нет.
Все было ясно.
– Но позвонить-то ведь можно?! Я прекрасно понимаю, что, может быть, еще и неделю не получится, мало ли что может быть, но позвоните и скажите. Вдруг мне надо было куда-то уйти, а я не могу уйти, потому что я жду вас. Как быть?
Пунктуальность и обязательность были для Гончарова естественным и непременным проявлением культуры поведения, культуры общения. Столь же требователен, как к другим, он был и к себе.
Никогда в жизни Андрей Дмитриевич не задержал ни одной работы: сказано, надо сделать к 1 сентября, он приносит 1 сентября – не 2-го. Я знал только двух таких художников – его и В.А.Фаворского. Причем пунктуальность и обязательность были у Гончарова человеческими, а не только деловыми качествами. Если он обещал кому-то что-нибудь сделать, ему не надо напоминать об этом. Он не за все и не всегда брался, но если брался, то повторных просьб не требовалось.
Как и многие люди его круга и его поколения, Гончаров мыслил высшими категориями искусства. Несмотря на то, что он любил повторять: «в искусстве важно не что, а как», – когда речь заходила о произведении мирового уровня, он не говорил ни о композиции, ни о каких-либо колористических качествах. Его внимание привлекали образная сторона, содержание. В первую очередь его волновало, что же сказал автор, ради чего сделана эта картина или эта гравюра.
Огромное значение Гончаров придавал роли художника как гражданина, члена общества. Прекрасно понимая, что литература более доходчива, а изобразительное искусство для поминания сложнее, тем не менее он считал, что художники в большей мере, нежели, скажем, писатели, могут влиять на культуру в целом. Художник – главная фигура в развитии культуры, он является как бы конгломератом знаний, эмоций, общих для всей культуры. В какой-то степени я с этой позицией согласен.
Литературу Гончаров очень хорошо знал и тонко чувствовал. Меня всегда поражало, как он любил и понимал поэзию. Многое помнил и читал наизусть. Прекрасно чувствовал поэтический ритм, самую музыку стиха. Кстати, то, что я люблю поэзию, – влияние Гончарова. Он приучил меня любить поэзию, именно приучил – по-другому не скажешь.
Если говорить о литературных вкусах Андрея Дмитриевича, то, на мой взгляд, он был человеком скорее западного толка, западником в том смысле, который вкладывали в это слово в XIX веке. Западноевропейская литература была ему ближе, хотя он очень любил и русскую, особенно литературу второй половины XIX века. Он высоко ценил Достоевского и даже считал его в чем-то сильнее Шекспира. Однако все, связанное с Востоком, было ему чуждо. Правда, в 1970-х годах он оформил две книги классической китайской поэзии, но эти работы, на мой взгляд, подражательны.
Вообще к «экзотическим» культурам Гончаров был равнодушен. В начале 1960-х годов мы с ним пошли на большую выставку «Искусство Мексики». Мне она показалась довольно любопытной, но на Андрея Дмитриевича явно не произвела впечатления. Он посмотрел только маски. Мы ушли, не обменявшись мнениями, а позже он мне сказал:
– Владимир Андреевич побывал на этой выставке, – и хохочет, – а выставка-то ему не понравилась. Неинтересная, говорит, выставка, там вообще искусства мало, единственное, что там есть, – этот пластика в скульптуре, изображающей змей. Вот это пластично, все остальное не обладает пластикой.
Я спросил:
– Андрей Дмитриевич, ну а что вы-то?
– Лучше Фаворского не скажешь.
Удивительно интересно и увлекательно он мог говорить о старых итальянских мастерах, об импрессионистах, постимпрессионистах, художниках ХХ века. Причем он был в своих оценках очень точен, хотя порой и жесток. Однажды я у него спросил:
– Андрей Дмитриевич, для меня странная фигура – Модильяни. То возникает повышенный интерес к нему, повальное увлечение, потом на долгие годы его забывают, потом опять возрождается интерес. Почему?
– Чему удивляться, для мирового искусства это художник посредственный. В периоды, когда общество опускается до посредственности, появляется увлечение Модильяни. Ведь такая вещь не происходит ни с Рембрандтом, ни с Пикассо, потому что это великие, самые высокие вершины. А Модильяни – где-то посередине.
Обычно Гончарова воспринимают прежде всего по произведениям, созданным в тот период, когда он еще находился под влиянием Фаворского. Я довольно часто слышал и продолжаю слышать: если бы он работал так, как в те времена, когда иллюстрировал «Двенадцать» А.Блока или «Рулетенбург» Л.Гроссмана, если бы он остался таким, то стал бы великим. Я категорически с этим не согласен. Школа Фаворского при всех ее достоинствах была очень рационалистической. У Фаворского и его последователей всегда все интересно и блистательно сделано, но эмоционально намного сильнее действуют работы Гончарова, причем не 1920-х – начала 1930-х годов, а гораздо более позднего периода.
Отдавая дань влиянию учителя, после недолгого периода подражания его манере Гончаров пришел к самостоятельному пониманию вставших перед ним задач и начал искать собственные пути. Первым опытом стали иллюстрации к блоковской поэме «Двенадцать». В те годы это творение А.Блока захватывало умы молодежи своей революционностью, новым содержанием, небывалыми до той поры образами, сложным новаторским строем – тревожным и напряженным. И молодой художник сделал гравюры в духе поэтического строя поэмы.
Он постоянно работал над особым, специфическим языком ксилографии – гравюры на дереве, усиливал значение силуэта, энергию контура, создавая ими массы, объемы, пространство. Постепенно тонкость штриха, серебристость общего тона уступают место насыщенности, плотности изображения.
В 1950-е годы он начал как бы искать свободу в гравюре, стал менять манеру и прием гравирования. Пытался превратить, если так можно сказать, регулярный штрих в свободный, работать штихелем столь же свободно, как карандашом. Эти поиски увенчались полным успехом уже в последние годы его жизни, годы, как мне кажется, его наивысшего творческого подъема. В его работах последнего двадцатилетия налицо абсолютная свобода владения средствами графического выражения – штрихом, линией, формой, пространством, точность их выбора, интеллектуализм, органично сочетающийся с эмоциональной наполненностью образов. Именно поэтому его иллюстрации мне кажутся самыми лучшими в нашей книжной графике. Каждая из них образна – будь то пейзаж, натюрморт, даже символическая заставка или концовка, в каждой есть большое содержание. Я уже не говорю о сюжетных иллюстрациях. Ведь созданные им персонажи запоминаются на всю жизнь. Я, например, считаю, что по его гравюрам к пьесам А.Сухово-Кобылина можно ставить спектакль. Даже чисто внешний облик героев пьес брать у него. Искать актера, подходящего к гравюрам Гончарова по типажу, делать грим. Точнее сделать невозможно.
Живопись Гончаров любил страстно. Однажды у меня с ним произошел такой разговор:
– Андрей Дмитриевич, скажите откровенно, что вам больше нравится – книжная графика или живопись?
– Недозволенный прием! Не позволю со мной так разговаривать!
– Почему «не позволю»? Вы занимаетесь и тем и другим – естественно, что-то Вам должно быть ближе.
– Ну, графику я делаю для денег. Надо же на что-то жить.
Я возразил:
– Андрей Дмитриевич, ведь врете же! Вы не тот человек, который ради денег будет что-то создавать. Я знаю художников, которые работают ради денег.
– Ну и что?
– Они меня оставляют равнодушным, холодным.
– Не теребите мне душу.
Как и для многих людей его эпохи, живопись для Гончарова была основой основ. Ведь станковые произведения – основа любого вида изобразительного искусства, а, скажем, книжная графика – это своего рода вторичный ход, хотя в ней действуют те же законы.
Жизненный уклад начала 20-х годов и система художественного образования подводили студентов к жажде практической деятельности: всех тогда захватили, воодушевили идеи связи искусства с производством, и Гончаров перешел с живописного на графический факультет, возглавляемый Владимиром Андреевичем Фаворским. Так был сделан первый шаг к работе в книге. Фаворский утвердил в книжной графике гравюру на дереве: из подсобной техники, применявшейся при репродуцировании, она стала подлинным искусством. Подобный подход к созданию книги, понимание ее как единого цельного организма, со своим собственным пространством и временем, произвели революцию в издательском деле. Возникло понятие «искусство книги». Но своим главным занятием Гончаров считал живопись, хотя больше времени посвятил графике. Конечно, чисто эмоционально живопись давала ему гораздо больше. Не занимайся он живописью, того эмоционального накала, который ощущается в его гравюрах, созданных после освобождения от влияния Фаворского, просто не было бы.
Был период, когда Гончаров делал монументальные росписи. Не могу сказать, что я в большом восторге от этих работ. Мне кажется, это все-таки не его сфера. Даже знаменитое панно «Золотая Москва», которое он выполнил для Всемирной выставки в Брюсселе совместно с А.Васнецовым и В.Элькониным, – вещь, безусловно, красивая, но скорее декоративная, нежели по-настоящему монументальная. Да и сам Андрей Дмитриевич относился к ней довольно скептически.
По-моему, его монументальное чутье оно у него безусловно было больше выразилось в гравюрах, чем в монументальных работах. Ведь как обычно думают? Монументальное – это сорок метров длины, шестьдесят высоты, там и мозаика, и скульптура, и фреска, чего только нет. Однако все это еще не значит, что произведение монументально. У Фаворского есть крошечная гравюра «Данкуо». Ее однажды увеличили на фасад Манежа, почти до конька крыши, сделали как бы символом выставки. Это подлинно монументальное произведение, оно не боится увеличения. Его можно бесконечно увеличивать, и оно от этого не теряет своих качеств. Я убежден, что если гравюру Гончарова (любую!) точно также увеличить, она стала бы монументальным произведением, причем ее можно было бы перевести и в другой материал. Когда же он делал росписи, мне кажется, в них не было монументальности. А в живописи у него проявлялось монументальное чутье. В его портретах особенно чувствуется, что он мыслил категориями крупной формы, а это должно быть присуще всякому монументалисту. Но ярче всего его монументальный дар проявился в графике. Причем не только в таких вещах, как, например, иллюстрации к Шекспиру. Даже гравюры к А.Островскому или А.Чехову с маленькими фигурками – размером сантиметром полтора – тоже монументальны. Я никогда не забуду его малюсенькую фигуру Фирса. Это настоящий Фирс, глубокий образ. Думаю, что монументальность заключается не столько в размерах и не только в особых изобразительных приемах. Главное – образ, если его нет – никакой монументальности не будет.
По-моему, размеры несколько пугали Андрея Дмитриевича. Мне кажется, когда перед ним стояла задача работать на большой поверхности, он даже чувствовал себя немножко растерянным. Это мое ощущение, я никогда не говорил об этом. Но как-то я спросил у него:
– Андрей Дмитриевич, а почему вы не продолжаете заниматься монументальными работами?
– А! Да я от этого давно отошел. Это мне и не нужно, мне достаточно небольшого холста или доски для гравюры.
Гончаров мог написать портрет – очень острый, со всеми психологическими нюансами, с подробной внешней характеристикой – за двухчасовой сеанс, в крайнем случае – еще два часа на следующий день или через день. Однако это не была легко сделанная вещь. Если он встречал заинтересовавшую его модель, то не обращался с ходу: «Пойдемте, я напишу ваш портрет». Он долго всматривался, изучал человека и, только когда у него что-то внутри вызревало, становился за мольберт. Он заранее продумывал даже колористическое решение.
С годами образные характеристики героев его живописных портретов становились острее, иногда доходя почти до гротеска. Но всегда зрителю открывался мир человека, понять который Андрей Дмитриевич умел, как немногие. В его полотнах все подчинено цвету, сопоставлению ярких, контрастных сочетаний; это играет основную роль в создании образа.
Он писал людей, окружавших его в повседневной жизни, которых хорошо знал. Человек интересовал его как конкретная личность, вне зависимости от общественного положения и профессиональной принадлежности. Но, проникая в глубину характера, психологии, он не склонялся к интимной трактовке. Его живопись несет в себе социальную остроту, подчеркивая значимость человеческой индивидуальности.
А гончаровские натюрморты и пейзажи поражают чистотой чувства, радостным переживанием природы. Его живопись открывает красочный мир, которым он распоряжается с небывалой свободой.
Всегда удивлялись: Гончарову гравюру сделать – раз плюнуть, подумаешь, сел и сделал. Не так, совсем не так. Предположим, он иллюстрировал Островского или Шекспира. Долго к этому подбирался, читал, много разговаривал, общался с людьми, пытался выяснить разные точки зрения, полемизировал. А потом садился и быстро гравировал.
Иллюстрируя замечательные произведения классики – Платона, Эсхила, Петрарки, Шекспира, Сервантеса, Стендаля, Мериме, Гете, А.Островского, Достоевского, Сухово-Кобылина, Блока, Маяковского, Хемингуэя, – Андрей Дмитриевич для каждого писателя находил нужную интонацию, образный графический строй и стиль. К некоторым из этих шедевров он обращался неоднократно: так было с «Гамлетом» – Гончаров каждый раз открывал здесь для себя что-то новое, старался глубже раскрыть характеры и добивался все большей выразительности языка гравюры. Он живо интересовался решением книжного пространства, отличного от пространства в других видах изобразительного искусства, и очень тонко его чувствовал. Это позволяло ему создавать органичный по строю, целостный организм книги.
Всю жизнь, будучи уже известным мастером, Гончаров стремился к совершенству, старался глубже постичь законы изобразительного профессионального языка, точнее воплотить в иллюстрациях замысел писателя. Его наивысшие достижения – гравюры к «Братьям Каразазовым» и пьесам Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Эти литературные произведения очень сложно выразить в зримых образах: психологическая насыщенность, экстремальность ситуаций требуют от художника безупречной техники и яркого ума, способности проникнуть в сокровенные тайны литературы, найти и показать самое существенное. В гравюрах Гончарова всегда велика роль света, резко рисующего силуэт и выхватывающего из темноты пространства отдельные куски изображения. Соотношения черного и белого, строгая, но иногда и декоративная ритмика позволяют добиться выразительности чувств, драматизма и масштабности решения. Богатство графического языка говорит о безграничных возможностях мастера, он меняется в зависимости от задач, возникающих в каждом случае
Гончаров еще в молодости поставил перед собой важную профессиональную проблему и к решению ее шел всю жизнь: как передать на листе пространство – не глубокое, а как бы сжатое, сокращенное, но не уплотненное? Это очень трудная задача, особенно в гравюре на дереве. Ведь мы имитируем тональные отношения, в гравюре нет разбега тона – есть только черное и белое, тон мы передаем штрихом. У меня были с Андреем Дмитриевичем на эту тему разговоры, но всегда вокруг да около. Лишь примерно за год до его смерти я заставил Андрея Дмитриевича высказаться начистоту. Произошло это при таких обстоятельствах.
В начале 1970-х годов я иллюстрировал роман И.Стоуна о Микельанджело – «Муки радости». Мне эти иллюстрации не очень нравятся, но две из них более или менее ничего. И вот спустя несколько лет Андрей Дмитриевич неожиданно попросил меня:
– Я вспомнил, у вас были две гравюры о Микеланджело. Вы не могли бы сделать оттиски и подарить мне?
– С удовольствием, Андрей Дмитриевич!
Я напечатал оттиски. Почему же он захотел иметь именно их? Когда я подумал, то понял. Тогда-то Гончаров и признался:
Это моя тайна, я всю жизнь мучился и все время искал этот пространствненный ход, но никак не мог его нащупать. Я вам завидую, Митя. У вас есть отдельные гравюры, где вы этого, сами не зная, достигли.
Кстати, в живописи в 1960-1970-е годы его интересовали сходные вопросы. Как сохранить «матиссовское» активное цветовое пятно и в то же время сделать пространство неглубоким? Мне думается, под конец жизни он эту задачу для себя решил и в живописи, и в графике. Гравюрами к пьесам Сухово-Кобылина лучшее, на мой взгляд, из того, что он сделал, он как бы поставил точку над всеми своими творческими исканиями. Разумеется, это не значит, что он нашел универсальное решение, оно не может служить примером для других, каждый художник идет своим путем. Искания Гончарова являют собой образец настоящего творческого отношения к профессиональным проблемам. И когда он уже был очень болен, он сказал мне: «Митя, я умираю счастливым человеком, потому что я сделал то, что хотел сделать». Эти слова, по-моему, тоже характеризуют его как крупную личность.
Гончаров оставил большое творческое наследие, которое является одной из вершин нашего изобразительного искусства, – это для меня безусловно. Сложнее ответить на вопрос, оставил ли он после себя школу. За тридцать лет преподавательской деятельности у него учились сотни людей, активно работающие сейчас в книге. Но назвать их школой Гончарова в традиционном понимании этого слова вряд ли можно. Ведь его основной педагогический принцип – не учить рисовать так-то и так-то, а воспитывать художника, развивая индивидуальность, – не предполагал передачи ученикам какой-то системы изобразительных приемов. В то же время есть люди, непосредственно у Андрея Дмитриевича не учившиеся, но общение с ним сыграло колоссальную роль в их творческой судьбе.
Я думаю, настоящие ученики Гончарова – не только его бывшие студенты, но и все, кто был с ним духовно близок, в ком он – и в институте, и вне его стен – воспитывал художников. Именно их я называю последователями Гончарова, его «школой»: в них продолжают жить гончаровские представления о высоком назначении и смысле искусства.
 Еще файлов 49 из этого альбома
Еще файлов 49 из этого альбома