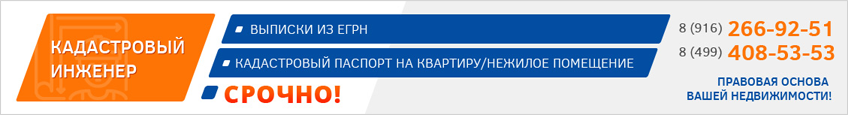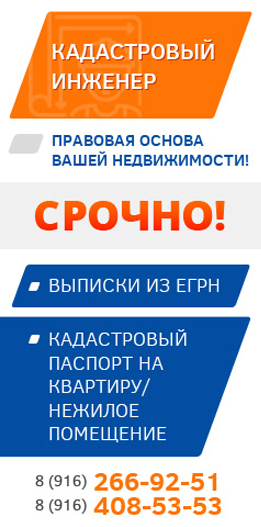20 июля 2013
Пластов Аркадий Александрович Plastov Arkady. Автор: Донченко А.И.
(в альбоме 148 файлов)
Изобразительное искусство / Живопись / Реализм
Разместил: Донченко Александр
Пластов Аркадий Александрович
Plastov Arkady
(1893 - 1972)
Еще при жизни А. А. Пластов был признан классиком советского искусства. Его работы попали даже в школьные учебники. Но мы глубоко ошибемся, если воспримем Пластова как официального художника. Да, он писал заказные картины, изображал Ленина в Разливе, запись в колхоз и колхозные праздники. Да, не все в его огромном наследии равноценно. Однако лучшие его картины стали классикой не советской, но русской живописи XX в.

Пластов - великий художник крестьянской России. Она смотрит на нас с его картин и портретов. Она останется в вечности такой, какой изобразил ее Пластов.
Он был сыном деревенского книгочея и внуком местного иконописца. Закончил духовное училище и семинарию. С юности мечтал стать живописцем.
В 1914 г. сумел поступить в МУЖВЗ, но его приняли лишь на скульптурное отделение. Параллельно учился живописи.
В 1917-25 гг. Пластов жил в родном селе; как "грамотный", занимался различными общественными делами. Только во второй половине 1920-х гг. он смог вернуться к профессиональной художественной работе.
В 1931 г. у Пластова сгорел дом, погибло почти все созданное к этому времени. Художнику без малого сорок лет, а он оказался практически в положении начинающего. Но еще сорок лет неустанного труда - и число его произведений приблизилось к 10 000. Одних портретов - несколько сотен. В основном это портреты односельчан.
По-своему столь же уникальная серия, как и "Русь уходящая" П. Д. Корина. Ведь и эта Россия должна была исчезнуть в горниле социалистического строительства.
Пластов - природный реалист. Модернистская гордыня, поиски чего-то абсолютно нового и невиданного были ему совершенно чужды. Он жил в мире и любовался его красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов убежден: главное для художника - увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Каждый оттенок, каждую черточку в своих картинах художник многократно проверял в работе с натуры. Непритворность, полное отсутствие того, что называют "манерой", отличает Пластова даже от тех замечательных мастеров, наследником живописных принципов которых он был, - А. Е. Архипова, Ф. А Малявина, К. А. Коровина.
Пластов осознает себя продолжателем всей национальной художественной традиции. В колорите русской природы он видит чарующие краски наших старых икон. Эти краски живут в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом и голубом цвете крестьянских одежд . На место святых подвижников заступают русские крестьяне, чей труд и тяжек, и свят, чья жизнь для Пластова - воплощенная гармония природы и человека.
Художник много и плодотворно работает в 1930-х гг., но первые свои шедевры он создает в военные годы. Война как народная трагедия, как посягательство на естественные и священные законы бытия - "Фашист пролетел" (1942). И нерушимость этих законов, нерушимость основ народной жизни - классически сдержанная и прекрасная "Жатва" (1945). Трагедия войны здесь скрыта, она - в отсутствии отцов и старших братьев детей, сидящих рядом с пожилым крестьянином. Невозможно остановить и победить естественное течение жизни. Ее торжество в сиянии солнечных лучей, буйстве трав и цветов, шири русского пейзажа, простой и вечной радости труда на родной земле - "Сенокос" (1945).
И впоследствии в лучших своих работах Пластов удержал достигнутый уровень: "Родник" (1952), "Юность" (1953-54), "Весна" (1954), "Лето" (1959-60), "Ужин трактористов" (1951). Не случайно в названиях многих из них есть нечто обобщающее. Пластову дана редкая способность события реальной жизни, часто самые обыденные, превращать в идеальный образ, как бы открывать их сокровенный, подлинный смысл и значение в общей системе устройства мироздания. Поэтому он, современный русский реалист, так естественно продолжил классическую художественную традицию. Вот молодая женщина на минуту выбежала из бани, чтобы поплотнее укутать дочку ("Весна. В бане", 1954). Но не сестра ли она красавицам из "Весны" и "Рождения Венеры" С. Боттичелли? Вот замечтался, глядя вдаль, мальчишка-подпасок ("Витька-подпасок", 1951). Но не брат ли он молодому человеку из "Завтрака на траве" Э. Мане? А эта девушка, что замерла у родника с коромыслом на плечах ("Родник"), - не стала ли она столь же вечным источником гармонии, что и прелестная юная особа из "Источника" Д. Энгра? Неизбывное счастье бытия, неизъяснимо сладкое чувство Родины буквально изливаются на нас с картин Пластова. Но... Та Россия, которую так любил Пластов, частью которой он был, уже на его глазах уходила в прошлое. "Из прошлого" (1969-70) - так и называется одна из последних крупных работ художника. Крестьянская семья в поле, во время короткого отдыха. Все так естественно просто и так значительно. Крестьянское святое семейство. Мир гармонии и счастья. Частица рая на земле.
______________________________
Аркадий пластов
Вечер. Тишина небес на миг посетила землю. Теплые стрелы зари долетели до обочины поля, и, как по мановению кудесника, все обыденное стало колдовством.
Слышно, как звонко льется в миску тугая струя молока, как мягко входит нож в еще теплую краюху хлеба и негромко вздыхает приглушенный трактор, как шелестят травы и поет в бескрайних просторах летний, напоенный горьким ароматом трав и цветов ветер.
«Ужин трактористов».
Немудреный. Но нет вкусней его и желанней. Потому что сдобрен он трудом великим. Да потому, что накрыли стол — саму землю нашу — милые сердцу руки.
На миг задумался тракторист в просоленной алой майке и старой фронтовой фуражке танкиста.
О чем?
Как душист ржаной хлеб. Или, может быть, вспомнил фронтовую горбушку и друзей, которых никогда не увидит, земляков, однополчан.
Или, может быть, о том…
Да, впрочем, о чем можно мечтать после такой маеты?
Льется тугая струя молока, мерно колотится сердце трактора, нетерпеливо постукивает деревянной ложкой молодой вихрастый русый паренек, подручный тракториста, тихо мурлычет нехитрую песенку милая курносая девчонка в белой косынке.
Сама жизнь.
Без прикрас.
Терпкая, горькая, желанная, в каждом мазке, каждой жилке полотна Пластова «Ужин трактористов», написанного в 1951 году…
Больше сорока лет прошло с той поры, как молодой парнишка Аркадий Пластов пересохшими от волнения губами прошептал:
«Быть только живописцем и никем более!»
Сорок лет пролетело с тех сказочных дней 1911 года, когда из далекого села Прислониха Симбирской губернии, покорный велению сердца, в Казань пришел восемнадцатилетний Пластов, чтобы поглядеть выставку знаменитого Поленова.
«Был я тогда поднят до каких-то заоблачных высот — ведь я видел картины одного из тех, кто, по моим тогдашним понятиям, коснулся вершин возможного. Поленов сразу же привлек меня свежестью красок и световых эффектов. Они мне казались ярче самой действительности», — вспоминает в «Автобиографии» Аркадий Александрович.
Сорок лет… Какое время пережил художник, сколько увидел, сколько перечувствовал, прежде чем создать свой «Ужин трактористов» — картину, в которой вся упругая сила народная!
Ведь недаром в 1958 году на выставке в Лондоне президент Королевской Академии художеств Чарльз Уилер, пораженный полотном Пластова, произнес:
— Как много дает такое искусство! Реализм. Вы знаете, я как-то теперь особенно ясно понял, почему вы, русские, смогли выстоять в войне и победить. Кто может так упоенно работать, о, того нелегко одолеть!
… Вечерело.
Лучи зари с искусством гениального скульптора вылепили набухшие жилы на корявых, тяжелых кистях рук тракториста. Неумолимо прорезали суровые борозды морщин на лице бывшего солдата. Нежно коснулись румяной щеки паренька, прошлись по вихрастой макушке. Мягко наметили обаятельные черты девочки в белом, скользнули по былинкам выгоревшей травы и разлились по вздыбленным могучим пластам поднятой целины.
Земля…
Русская, раздольная раскинулась до самого края небес, там, где сизые предзакатные тучи сливаются с горизонтом.
Земля и человек. Они воспеты в этой картине, картине мудрой и честной, отражающей само время.
Необычайна, сурова красота полотна.
По-суриковски густо, кряжисто написан характер героя, внешне ничем не примечательного, но красивого своей приверженностью земле, Родине, правому, справедливому делу.
В колорите холста угадываются звучания врубелевского «К ночи», куинджевских закатов, рериховских былинных сказов.
Но это Пластов!
Горько и как-то неловко читать сегодня пожелтевшие полосы газет, где в статьях искусствоведов той поры в пух и прах разносили эту замечательную картину за мнимую грубость, приниженность, примитивизм, незнание жизни.
Но, к счастью, это уже страницы истории.
Хотя художнику приходилось пережить в те годы немало тягостных минут, выслушивая упреки в отсутствии как раз тех самых качеств, которыми он обладал на самом деле в высшей степени, — правдивости и гражданственности.
Труден и замечателен творческий путь Пластова.
Вот несколько строк из его «Автобиографии»:
«Наше село лежало на большом Московском тракте, и, сколько себя помню, мимо нашего дома вечно тянулись бесконечные обозы, мчались тройки с ямщиками-песенниками.
Кони были сытые, всяких мастей, гривастые, в нарядной сбруе с медным набором, с кистями, телеги и сани со всякими точеными и резными балясинами, дуги расписные, как у Сурикова в «Боярыне Морозовой».
С тех пор запах дегтя, конское ржание, скрип телег, бородатые мужики приводят меня в некое сладостное оцепенение.
Блаженством, которое не повторится, пролетело детство.
Три года сельской школы. Лимонно-желтая азбука как будто вчера раскрыла передо мной чудеса звучащих и говорящих закорючек. Крохотный синий томик Пушкина-, Капитанская дочка» и кольцовское «Что ты спишь, мужичок» было первое, что я узнал из литературы и что пытался иллюстрировать.
Зачем?
Кто знает! Не помню сам.
К нам тогда ходила одна старуха, нянька Степановна. Она домовничала у нас, когда отец с матерью уходили в гости на святках, на пасху. Степановна, сухонькая и ласковая, рассказывала в сумерках нам былины и сказки про Илью Муромца, про Егория Храброго, про Аленушку и бел-горюч камень.
Знала она их, должно быть, очень много, так как никогда ничего не повторяла, за исключением любимой нами Аленушки и братца Иванушки».
Как не вспомнить здесь еще раз строки Белинского о формировании таланта русского художника:
«Возьмем поэта русского: он родился в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лето знойное, земля обильна и плодородна: разве все это не должно положить на него особенного характеристического клейма? Он в младенчестве слышал сказки о могучих богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных царевнах и княжнах, о злых колдунах, о страшных домовых; он с малолетства приучил свой слух к жалобному, протяжному пению родных песен; он читал историю своей родины, которая не похожа на историю никакой другой страны в мире».
Но какие разные характеры рождаются на этой необыкновенной и великой земле.
Если Василий Иванович Суриков с детства прикипел сердцем к древности, к истории Руси и всю жизнь был верен этой благородной теме, то юный Пластов, получив первую школу у своего деда и отца — иконописцев — и наглядевшись вволю на «веселых кудрявых богомазов», приглашенных подновить роспись при-слонихинского храма, очарованный чудом, рождения среди розовых облаков какого-нибудь красавца гиганта, крылатого, в хламиде цвета огня», решил стать певцом своих современников, родного села, его летописцем.
Казалось, в этой купели должен был родиться талант типа нестеровского.
Но жизнь — великая кузница характеров — ковала иную лиру.
Пролетело детство… Рассказывает Пластов:
«В 1912 году я окончил четыре класса семинарии. Друзья и покровители устроили мои дела самым наилучшим образом. Губернская управа постановила выдавать мне стипендию на художественное образование по двадцать пять рублей ежемесячно. Я еду в Москву.
Устраиваюсь в мастерскую к ныне покойному И. И. Машкову дгш подготовки к конкурсу в Училище живописи, ваяния и зодчества. Это было месяца за два до экзамена.
Сам не свой брожу я по Москве. Башни и соборы Кремля, Китай-город с кустиками на седых стенах, Василий Блаженный, Красная площадь и, наконец, Третьяковская галерея…
Невозможно описать эти переживания.
Я задыхался и еле стоял на ногах.
Никогда я не чувствовал столько сил для любой победы на избранном пути, как тогда.
У Машкова я пробыл два месяца.
Жестоко страдал, когда он бесцеремонно толстенным углем выправлял мои филигранно отточенные карандашом головы, ни во что ставя мою манеру, так превознесенную в богоспасаемом Симбирске.
Но вот и конкурс. Три дня огромного напряжения — и в результате провал».
… Но упрямый паренек из Прислонихи не сдался. Он идет в Строгановку вольнослушателем в скульптурную мастерскую. Бегут месяцы, «стипендии на жизнь не хватало», но молодой Пластов добивается своего.
«В 1914 году я поступил на скульптурное отделение Училища живописи, ваяния и зодчества, — продолжает Аркадий Александрович. — Посидев в Строгановке за скульптурой, я пришел к мысли, что неплохо бы ее изучить наравне с живописью, чтобы в дальнейшем уже иметь ясное понятие о форме. Сказывалось, конечно, чтение о мастерах Возрождения. Живописью же я полагал пока так и продолжать заниматься на дому.
Три года был я в училище, окончил головной, фигурный, натурный классы… На лето уезжал в свою Приелониху, писал этюды, постигал премудрость передачи действительности с большой точностью, до натуралистической сухости».
… Казалось, путь художника начал определяться, он лежал в привычном кругу, очерченном мастерской, вернисажами, успехами и неудачами, словом, всем тем, к чему испокон веков трудно, но привыкали провинциальные неофиты.
Но судьбе угодно было распорядиться по-иному, и Пластов по мановению истории получил школу, еще невиданную.
«Революция (февральская) застала меня на третьем курсе.
После того как я, подобно многим, покатался по Москве на грузовике с пулеметами, с красным флагом на винтовке, арестовывая приставов, жандармов в участках, на вокзалах, я все же в конце третьей недели с начала революции поехал к себе в Приелониху писать на натуре.
Жизнь, однако, внесла свои неумолимые коррективы.
Сходки чуть не каждый день. Ко мне приходят десятки людей с такими вопросами, отвечать на которые мне и во сне не снилось, а отвечать, разъяснять, помогать разбираться в тысячах небывалых до сего времени вопросах я был вынужден благодаря своему положению самого грамотного человека в селе, положению «своего», которому можно было довериться.
Впервые я задумался над политической стороной жизни.
Прежнее, дофевральское, примитивное представление о революции безвозвратно покинуло меня. К стыду своему, в февральские дни мне мнилось что вот ликвидировать глупого и вредного царя — и основное дело свое революция выполнит.
Катаясь на грузовике, забирая в плен ошалелых околоточных, я искренне почитал себя заправским революционером.
И только в октябре, когда я приехал в Москву заканчивать Училище живописи и наткнулся совершенно неожиданно на баррикады и стрельбу на улицах, я уразумел наконец, что революция в такой стране, как тогдашняя Россия, — процесс, который по своему размеру и значению подобен смене геологических эпох в жизни нашей планеты, и что сейчас мало быть только художником, но надо быть еще и гражданином».
Гражданин… Это гордое звание носил Пластов с той поры всю жизнь — когда был избран членом первого сельсовета и когда в числе прочих безземельных был награжден землей и стал пахарем, косцом и жнецом. Он остался им и тогда, когда наконец, после великих трудов и переживаний одолел школу и стал мастером. Его путь был нелегок.
«В январе 1931 года в нашем селе организуется колхоз. В его организации я принимал горячее участие.
В том же году в один июльский день случился у нас пожар.
С час резвилось красивое всепожирающее пламя, и полсела ушло дымом в знойное июльское небо.
У меня сгорел дом и все вообще имущество. Все, что до сего времени я написал, нарисовал, — все пропало в пламени, стало пеплом, — горько вздохнул Пластов.
С этого времени я перестал принимать участие в полевых работах. У меня остались один огород и корова.
Надо было восстанавливать погибшее, и в темпах чрезвычайных. Эго было время, когда я медленно подходил к тому, как сделаться наконец художником».
Аркадию Александровичу Пластову в ту пору было около сорока лет. Иной, может быть, заколебался, свернул с намеченного в юности пути «создать эпопею из крестьянского житья-бытья», разменял бы свой талант на мелочи.
Но не таков был Пластов.
И с новой силой он собирает этюды, материалы к будущим картинам. Все впрок… для будущих полотен.
Художник выступает с первыми своими картинами «Колхозный праздник», «Стадо» и «Купание коней». В этих полотнах он заявил о себе как выдающийся колорист.
И опять перед Аркадием Александровичем Пластовым встает дилемма: либо продолжать скрупулезную, внешне малоприметную, но многотрудную работу по собиранию этюдов, эскизов к задуманной эпопее, приносящую пока не столько лавры, сколь хлопоты, либо соскользнуть на путь писания модных в то время помпезных композиций.
Пластов избирает первый путь. Он остается верен себе.
Дни, месяцы, годы проходят в труде, исканиях.
Его главная тема — Человек и Родина — не находит еще своего полного пластического выражения.
Грянул гром Великой Отечественной.
И гражданская лира Пластова зазвучала в полную силу.
«Фашист пролетел»… 1942 год.
Осень. Косогор. Юные тонкие березки в золотом уборе. Глубокий покой погожего осеннего дня. Не шелохнется ни одна былинка.
Резкий вой собаки прорезал тишину. Потерянно бродят овцы. Что это?
Припал щекой к сухой колкой траве пастушок. Упал неловко. Рука вывернута. Кнут и шапка отлетели далеко. Алая кровь на русых вихрах. Крепко прижался к родной земле. Не встать ему.
Далеко, далеко в ясном небе над изумрудными зеленями фашистский самолет. Миг назад свинцовый ливень остановил жизнь.
Воет пес, задрав мохнатую морду к небу. Жалобно мычат коровы, блеют овцы.
Вдали затихает ноющий зловещий звук. Шелестят березы.
«Отец горько переживал войну, — рассказывал мне Николай Аркадьевич, сын художника. — В его душе кипел справедливый святой гнев.
И эти его чувства вылились в картине «Фашист пролетел». Однажды отец писал осенний этюд. И этот мотив настолько растрогал его, что я увидел слезы на его глазах.
Когда вернулись с этюда домой, отец вмиг набросал эскиз будущей картины.
Начался мучительный сбор материала. Сельские мальчишки помогали ему. Но никак никому не удавалось упасть на траву, как хотелось отцу.
Наконец один малыш, споткнувшись, как-то неловко растянулся на сухой траве.
— Стой, стой! — вскричал отец.
Через семь дней картина была написана.
В ее основу лег тот первый, глубоко тронувший отца осенний этюд».
Семь дней. Вот срок создания шедевра.
Сколько раз история искусств дает нам уроки победы воли, духа, любви к Родине, которые ведут художника к сверкающим вершинам искусства…
Много, много неповторимого рассказал молодой Пластов, сам интересный художник.
Отец и сын.
Бесценны письма Аркадия Александровича к Николаю.
Вот всего два из этого наследия:
,С большим вниманием и удовольствием прочитал твои письма. Знай, милый сынка, что радостью бьется мое сердце и гордостью, когда я читаю о том, что ты пишешь и рисуешь и не кичишься достигнутым, а относишься вдумчиво и критически.
Это очень верно, это так и нужно — вот этот здравый взгляд на вещи, на себя, на свои поступки, на движенье своих мыслей, своего сердца.
Через это достигается то беспокойство духа, плодотворное и творческое, без которого немыслимо никакое движение вперед.
Всегда держись этой троицы: веры, что делаешь то, что нужно, надежды, что у тебя хватит силы на это, и любви к этому делу.
Конечно, насильно не следует приневоливать себя ни к чему, но дисциплина духа должна быть всегда на высоте. Ведь бывают моменты, особенно у таких молодых, как ты, когда беспечная мысль, что все успеется, завладевает человеком так сильно, что начинается беспорядочный разброс сил и туда, и сюда, и вообще впустую.
Вот тут-то и должна быть стержнем поведения мысль, что работать надо систематически, никогда не отступая от планомерного упражнения в любимом деле.
Ведь никогда не придет в голову в какой-то момент взять да и бросить дышать, например. Впереди времени, мол, много, еще надышусь.
Так и эта работа.
Она должна быть ритмична и неустанна, как биение нашего сердца. Иногда послабже, иногда поинтенсивнее, но безостановочна, неусыпна — и тогда какая будет радость пожинать плоды умных и прекрасных трудов своих».
Думается, что эти мудрые слова обращены не только к одному Николаю. В них великое правило, если говорить прозой, мера, норма бытия для каждого истинного художника.
Труд, труд И еще раз труд!
Не менее весомо второе письмо, датированное маем 1947 года: «Ты вот пишешь несколько раздраженно о тех, кто не понимает лирики Чехова или Левитана и т. п.
Плюнь на это.
Наши ворота, корова, собака и т. д. ведь тоже ничего в этом не смыслят, и стоит ли на них за это рычать.
Не стоит игра свеч, тем более что вряд ли все перечисленные тобой субъекты персонально в этом виноваты, ты думаешь, что, пофыркивая на них, ты им или себе что-нибудь докажешь?
Нет.
Так сложилась у них судьба.
Алмаз, блистая бриллиантом в перстне, вряд ли имеет право поплевывать на алмаз, находящийся где-нибудь в глубине земли. Чем тот виноват, что его не вытащили на свет божий, не гранили, не вставили в кольцо?
Обстановка, жизненные условия — страшная вещь, сынок, и поэтому надо в жизни больше думать о том, как бы оправдать затраченные на нас силу и средства, любовь и внимание, непрестанно ускоряя свой шаг навстречу открывшейся твоему взору правде.
Людей этих, обездоленных и окорначенных жизнью, надо жалеть и помогать по силе возможности чего-нибудь понять из того, что еле-еле им брезжит.
Конечно, все это правда, что воображение и разумение их кургузо и часто смешно и нелепо, но, милый мой сынка, когда ты будешь много старше и опытнее в жизни, ты с горечью увидишь, что даже с большими данными познать истину и видеть красоту нелегко, не так-то много мы можем сделать для славы нашего искусства и знания.
Конечно, это очень хорошо, что тебе более понятна мати-пустыня, с которой ты ведешь наедине задушевные беседы. В этом счастье на всю жизнь.
Но в то же время не замыкайся с молодых лет в позе а ля Печорин или Базаров.
Нет ничего легче очерстветь сердцем, залезть в жесткую броню аристократического отщепенства и навеки потерять через это ту тончайшую отзывчивость сердца к малым людям, которая, как воздух, необходима истинному художнику и без которой человек просто невыносим».
«Познать истину и видеть красоту нелегко», — пишет Пластов сыну. И вот к тем людям, которые хотят понять лирику Чехова или Левитана, обращены глубоко философские полотна-метафоры художника, дающие обильную пищу уму и сердцу зрителя.
«Родник»…
Шумит ветер в густом ивняке. Гонит в высоком небе рваные облака. Рвет косынку, распушил тяжелые косы, шуршит в складках светлого ситцевого платья девушки, пришедшей по воду. Гонит рябь по темной воде.
Серебряной звонкой струйкой бежит студеная влага в подставленное ведро. Солнечные зайчики, продравшись сквозь заросли ивняка, сверкнули в устье желоба, рассыпались битыми алмазами в ведре и озарили стройную фигуру девушки.
Свежесть.
Чистота.
Победоносная босоногая юность властно чарует нас в этом холсте. Мы невольно вспоминаем далекие страницы нашей собственной жизни, и что-то светлое, радостное вопреки нашей воле посещает нашу душу.
Такова магия пластовской живописи.
С размаху, словно подкошенный, упал в густую траву парень. Устал. Только минуту назад, как безумный, он мчался наперегонки с веселым псом.
Жарко. Юноша сдернул рубаху, раскинулся, подмяв луговые цветы. Прикрыв рукой глаза, он глядит, как высоко в небе вьется вольная птица.
Зеленой стеной стоят рядом молодые хлеба. Летний легкий ветерок шевелит колосья, клонит их долу. Поет жаворонок.
Лето. Счастливая пора. Беззаботная юность. Пора созревания, надежд и мечты. В этом холсте с какой-то тоскливой пронзительностью чувствуешь невозвратность, бесценную мимолетность этой поры.
«Сенокос»…
Как в утренней капле росы, отражается весь радужный мир, пронизанный пением рожка, птичьим гомоном, мычанием коров, криком петуха, стрекотом далеко идущего трактора и голосом ветра, разгоняющего румяные облака на алеющем небосводе, так и в этой картине собрана вся радость нашей земли. Июнь.
Сенокос. Мы словно слышим, как звучит каждый цветок из этого тысячецветного букета и как звенят нежными аккордами сиреневые, голубые, лазоревые, бирюзовые, желтые, шафранные, пунцово-багряные, пурпурные и золотые кодеры.
Мощно звучат трубы вознесенных ввысь белоствольных берез, и, как аккомпанемент этой полифонии июня, рассыпаются серебряной трелью колеблемые летним ветерком миллионы листьев.
И как порою в симфонии после напряженного крещендо, когда каждый инструмент оркестра, вложив всю силу, сочность и своеобычие своего голоса в общий поток звуков, отдыхает в мерном, ласковом адажио, так и в полотне «Сенокос» мудрый художник, рассыпав перед зрителем драгоценную мозаику цветоносного июньского травостоя, дает отдохнуть глазу, раскинув перед ним волшебный ковер озаренной солнцем поляны…
И опять, как в музыке симфонии, подчиненной незримому закону контрапункта, где одни ритмы сменяют другие, так и в холсте мы видим соразмерное чередование темных перелесков, изумрудных лугов, синеющей вдали дубравы.
И наконец как финал в этом ликующем гимне радости, как заключительный аккорд, как самая торжественная нота в этом созвучии — над всем этим великолепием раскинулось высокое небо.
Наступила на миг тишина, и мы услышали кукушку и гудение мохнатого шмеля, трудолюбивую песню пчелы и мерное стальное звучание косы.
«Сенокос» — симфоническая поэма, гимн родной земле, победоносному народу, выстоявшему и победившему в жестокой, кровавой войне.
Волшебство этой картины Пластова — в высокой метафоричности языка живописца. Ведь насколько монументален, возвышен должен быть пластический словарь произведения, чтобы, взяв, казалось, самый древний сюжет из сельской жизни — сенокос, дать почувствовать зрителю грандиозность этой мирной панорамы, величие этой звучащей тишины. Ведь за всей этой бурлящей радостью жизни зритель тех дней невольно представлял себе всю бездну страдания и смертей, которую принял народ в недавние страшные годы.
Напомним дату создания полотна — 1945 год.
Точнее, лето 1945 года, и тогда еще яснее и точнее перед нами встанут весь масштаб гражданственности этого пластовского шедевра, вся звонкая правда этого удивительного полотна.
Философия холста становится для нас еще более разящей и убедительной, когда мы узнаем, что люди, изображенные на картине «Сенокос», не просто натурщики, изображающие косцов, а близкие, родные, товарищи Пластова, его односельчане.
Этот холст — соединение самого широкого обобщения и документальности, подлинности изображения.
Ведь юноша на переднем плане — сын художника Николай, женщина в белом платке похожа на супругу Наталью Алексеевну, а два пожилых косаря — земляки Аркадия Александровича — Федор Сергеевич Тонынин и Петр Григорьевич Черняев.
В этой доскональности, подлинности весь пафос самой творческой судьбы Пластова.
Ведь с самых первых шагов живописец ни разу не изменил своего, однажды заведенного святого порядка: каждый год писать с натуры жизнь родной Прислонихи, ее людей, их радости и заботы.
И если хоть на миг представить себе собранными в одном месте, пусть это будет музей или выставка, весь тысячелистный альбом рисунков, всю необъятную Массу холстов, то перед нами предстанет неоценимая панорама жизни одного села, возведенная до звучания летописи, страны.
«Весна»…
Сыплет редкий мягкий снежок. Мартовский, последний. Сквозь прозрачную вуаль серого дня перед нашим взором предбанник курной деревенской бани.
Молодая женщина любовно одевает дочку, курносую, обаятельную малышку, трогательно прикусившую нижнюю губку. Рыжая челка торчит из-под теплого платка.
Мать торопится. Шуршит под ногами золотая солома. Звонко падает тяжелая капель.
Зябко.
В этом холсте, как никогда, перед нами предстает во всем блеске мастерство Пластова.
Недаром зрители Третьяковки называют эту картину «Северной Венерой», с таким виртуозным мастерством написано это полотно. В свое время этот холст прозвучал как вызов отвыкшей от картин с обнаженной натурой публике…
И опытные перестраховщики назвали его компромиссно «Весна. Старая деревня».
Николай Аркадьевич рассказывал, как негодовал отец и как однажды, придя в Третьяковскую галерею, он в сердцах оторвал с этикетки слова «Старая деревня» и оставил слово, Весна».
Может быть, сегодня все это кажется почти юмористическим рассказом, но тогда Пластову было не до шуток. Вот письмо искусствоведу С., в котором автор пытается объяснить некоторые задачи искусства, не всем понятные:
«Что Вам сказать насчет того, почему я дал название «Весна» одной моей работе? Если брать «вопросы зрителей», так ну их с их вопросами. Мне на эти вопросы трудно ответить…
Вот как Вы им отвечали, мне было бы интересно узнать. Но если Вы сами хотите задать мне такой вопрос, то это уже много хуже и печальнее, ибо сие значит, что даже наиболее чуткие сердца замкнулись для самых обыкновенных голосов искусства и надо забывать евангельский наказ: «Толцыте и отверзется вам». Если искусство во многом, так сказать, иносказанье, немая и самая краснорзчивая речь, то, видимо, надо этому самому зрителю какие-то особенные уши, чтобы услышать сокровенный, страстный шепот души художника, чтобы вдруг ощутить тепло его уст, очнуться и как бы воскреснуть в ином, чудесном мире, из которого, заглянув в него хоть раз, уже никогда не захочется вернуться в то состояние, которое диктует такие названия, как «Рубка леса» (вместо «Смерти дерева») или «Мальчик на каникулах», какое мне советовали дать моей картине «Юность», и т. д. Выпишете: «Вы придумываете названия, на мой взгляд, очень многозначительные, которые соответствуют Вашему мироощущению. Уточните это. Подобная цитата не только поможет зрителю и каждому из нас…»
Дорогая моя! Я никогда не придумывал названий… Название и идея картины, замысел, его облик рождаются одновременно, неотделимо друг от друга. Но только на холсте я пишу цветом и т. п., а на бумажке, что под картиной, пишу ну как бы подстрочный перевод что ли того, что зрителю предстает в том или ином обличении перед глазами.
Каждый волен подыскать любое слово из убогого нашего словарного фонда (по сравнению с живописью), какое ему кажется более по его разумению, но, давая свой подстрочник, я втайне рассчитывал, что он попадет, попадет в руки поэта или просто умного человека и этого ключа хватит ему открыть мой ларец с немудреными сокровищами. Увы, это редко, редко доводится встретить, а пытаться объяснить слепому, какого цвета молоко, для меня просто не по мозгам».
Да, трудновато порою бывает художникам, которые пользуются не только азбукой, а перелистывают томики стихов Пушкина, рассказов Чехова.
Впрочем, далеко не все осуждали в те времена «Весну», были и мнения другие…
Пластов… Никогда не забыть его открытого лица. Глаз, пронзительно острых, порою лукавых, порою гневных.
Не изгладится из памяти улыбка мастера, светлая, почти детская, глубокий шрам у виска — заметка вражьей ненависти — и седая прядь на высоком, изборожденном заботами челе.
Мастер был прост и внешне доступен.
Но мало кто знал вход в светелку его души, открытой солнцу и детям, землякам и родной стороне.
Он был по-мужицки основателен и трудолюбив, поэтому ненавидел щелкоперов и верхоглядов.
Он презирал ложь.
И поэтому, как ни у кого в нашей живописи, с его холстов глядитна современника правда. Яркая, горькая, сочная и терпкая, какая она есть.
Его полотна — это мир, обильно населенный людьми, любимыми его современниками, малышами и древними дедами, красивыми молодухами и крепкими парнями. В его холстах щедро светит солнце, льют дожди, зреют хлеба, идет снег, словом, это сама наша жизнь, наш народ, Родина…
Враг безделья, он воспел в своих картинах труд крестьянина. Труд тяжелый, от зари до зари, труд, радостный плодами своими. Пахота, жатва, молотьба, уборка картофеля, цветущие луга и тучные нивы, плодоносные сады — словом, целую энциклопедию сельских будней развернул перед нами мастер.
Не улыбающиеся светлоглазые статисты населяют его полотна, а загорелые, жилистые, порою неприглядные в своей будничности, но тем более великие встают во весь рост на десятках его картин люди села — герои нашего времени!
Мало у кого в истории живописи найдешь такое слияние природы и человека. Молодая мать с малышом, истомленная зноем в саду, отягощенном плодами, юноша прилег на меже рядом с зеленеющим хлебом, старик сквозь слезы глядит на срубленную березу, детишки выбежали на крыльцо, любуются первым снегом — все это холсты-символы, мудрые, глубокие той бездной ощущений и ассоциаций, которые приходят не в кабинете и не в уединении студии, а даются опытом целой жизни, жизни в самой гуще народной.
Все тягости и радости испытал Аркадий Александрович Пластов. Он познал всю меру признания.
Как человек душевно богатый и щедрый он забыл досаду давних лет и в полотнах своих отразил радость бытия, радость безмерную.
Пластов — чародей.
Ведь одно касание его кисти заставляло вмиг раскрыться душистым венчиком цветы, зазвенеть прохладные струи родника, зашелестеть березовые ветки.
В его полотнах дышат травы, порхают бабочки, поют птицы, стрекочут кузнечики, живут, любят и мечтают люди, шумит спелая рожь.
Мастер горячо любил свою Родину, и когда доводилось ему покидать ее пределы, он всегда брал с собой за рубеж пучок чабреца и душистой богородской травы. Ему не хватало там, на чужбине, аромата прислонихинских лугов и полей.
Художник говорил:
«Я люблю эту жизнь. А когда из года в год видишь ее… думаешь, что надо об этом поведать людям…
Жизнь наша полна и богата, в ней так много потрясающе интересного, что даже обыкновенные, будничные дела наших людей приковывают внимание, потрясают душу. Это надо уметь видеть, замечать…
Фу, черт, скажешь себе, сколько жизни!
Она не даст упасть духом, сникнуть в ипохондрии или погрузиться в схоластические споры о живописной манере и форме.
Тут надо не спорить, надо писать — и так, чтобы было похоже!
Похоже на жизнь.
Здесь на каждом шагу прямо на поверхности рассыпаны живые, трогательные, оптимистические мотивы.
Словно специально для художника, художнику на радость!
… Не стыжусь признаться, люблю все, что вызвано к жизни солнцем, что обласкано его теплым светом, а больше всего люблю людей».
«Аркадий Александрович Пластов открывал наш второй съезд. А сегодня его нет среди нас, — сказал Гелий Коржев с трибуны Третьего съезда художников Российской Федерации. — Подъезжая к Прислонихе в скорбные дни смерти Пластова, я вдруг понял, что все, что меня окружает — и поля, и светлый березовый лес, и встречавшиеся на пути русские люди, — не просто природа и не только люди, но ожившее перед моими глазами содержание живописи только что ушедшего от нас великого художника».
В одном из своих писем мастер говорит: «Ни одну картину я не написал, не проверив тысячекратно то, что собираюсь написать, что это правда и только правда и иного быть не может».
Естественно, что серьезная и глубокая убежденность в правильности выбранного пути в искусстве не могла не потребовать от художника и определенного строя всей жизни. Его сенокосы и жатвы, его гумна с хлебом, его стада, пастухи, бесчисленные портреты крестьян воспевают труд, который наполнял всю его жизнь, который он знал не со стороны, не отделяя себя в своем непритязательном быту от того крестьянского мира, который так убедительно и мощно воссоздан на его полотнах.
Убежденно и последовательно многие десятилетия живет он не бок о бок, не рядом, а внутри этого мира, следуя влечению своего сердца и пониманию роли художника, жертвуя всеми соблазнами столичной благоустроенности ради той правды жизни, которая была основой, смыслом и целью его творчества. Отсюда убежденность и страстная поэтическая достоверность всего, что вышло из-под его кисти, отсюда десятки эскизов и сотни этюдов к каждой его вещи, сотни ступеней, ведущих его от правды факта, правды случайного, к высокой правде поэтического обобщения, к правде — гимну жизни.
Вслед за Гойей он мог надписывать на своих полотнах: «Я это видел»».
Аплодисменты покрыли эти слова Коржева…
… Пластов велик! Вся его жизнь — подвиг. Ему удалось исполнить сполна свой завет — «создать эпопею крестьянского житья-бытья».
«Мы раскуем в себе все то добро, что часто только дремлет на дне наших сердец, пустим в бой всю смелость, на какую способны наши души, всю дерзость наших мыслей, всю страсть желаний видеть, знать и любить все больше, все пламеннее нашу действительность и нашего современника… — писал художник. — … Помимо обязательного для художника-реалиста знания жизни — головой и сердцем, — ее полноты, разнообразия, сложности и поэтичности этюды, то есть непрестанное упражнение руки и глаза на натуре, дают в конце концов необходимое чувство меры и легкость исполнения, верность и силу удара кисти, что приводит к тому чудесному их контакту, когда ты можешь сказать: что вижу, то умею».
Читая эти мудрые строки, хочется воскликнуть:
«Да, поистине Пластов видел и умел!»
Никогда не забуду посмертной выставки произведений Аркадия Александровича Пластова, развернутой в Центральном выставочном зале в Москве.
Огромный Манеж был сплошь завешан сотнями изумительных полотен. Они были бесконечно разные. Огромные картины, в которых ликовала жизнь, буйствовал цвет, кипел великолепный темперамент мастера, и пейзажные маленькие «тихие» этюды, интимные портреты земляков, курносых, веснушчатых малышей в смятых картузах, милых синеглазых девушек и корявых древних старцев, — все это вместе звучало как симфония, эпопея жизни Прислонихи. Ведь все холсты суть отражение жизни родного села.
Это был поистине неповторимый творческий подвиг всей жизни художника, отразившего в образе своей деревни нелегкое бытие той поры. И этот уникальный труд зримо подтверждает всемогущество и великую надобность истинной станковой живописи, способной так правдиво и убедительно отразить время, людей.
А ведь ни для кого не секрет, что много лет, особенно с начала двадцатых годов, в нашей стране шла атака на станковую живопись. Она будто бы отжила свой век и не способна динамично и современно, подобно кино или фотоискусству, показывать время, в котором мы живем. «Станковая живопись — допотопный способ пластического мышления» — говорят эти «знатоки».
Никто не спорит, что кино великолепно. Но даже километры цветной пленки не способны создать ничего равного по художественности и первичности тому грандиозному творению, каким явила себя пластовская «Прислониха».
 Еще файлов 148 из этого альбома
Еще файлов 148 из этого альбома