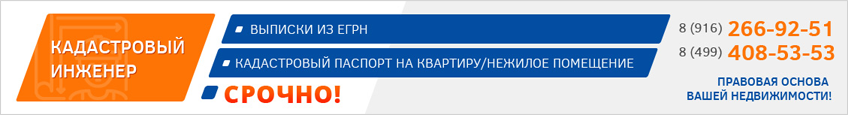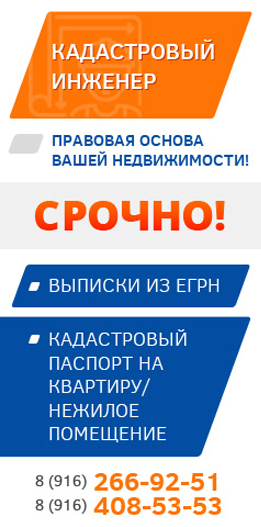05 октября 2014
Рыбченков Борис Фёдорович Rybchenkov Boris. Автор: Ивасив Александр Иванович
(в альбоме 29 файлов)
Изобразительное искусство / Живопись / Пейзаж
Разместил: Ивасив Александр
Рыбченков Борис Фёдорович
Rybchenkov Boris
(1899 - 1994)
Живописец, график.
В 1915–1918 учился в Киевском художественном училище, в 1920–1921 — в петроградском ВХУТЕМАСе у Н. И. Альтмана и А. Т. Матвеева, в 1921–1925 — в московском ВХУТЕМАСе у Л. С. Поповой, А. Д. Древина и А. В. Шевченко.
В 1918 вместе с другими художниками участвовал в праздничном оформлении Смоленска к первой годовщине Октября. Впервые экспонировал свои работы на 2-й выставке Смоленского общества художников в 1919. Во время Гражданской войны работал в «Окнах сатиры и РОСТА» Реввоенсовета Западного фронта, занимался оформлением агитпоездов. Участвовал в выставках в СССР и за границей, в том числе во всех выставках группы «Тринадцать». В 1927 создал вместе с Ч. К. Стефанским литературно-художественный рукописный альманах «Бедлам».
Работал в основном как пейзажист, создавая камерные, лиричные произведения в духе «тихого» искусства. Неоднократно совершал творческие поездки по стране: путешествовал по Уралу, Северу, Украине, Крыму, рекам Волга и Кама. Занимался книжной иллюстрацией. Руководил в Смоленске изостудией Пролеткульта, преподавал рисунок в школах.
В 1960 организовал Детскую изостудию № 1 Ленинградского района Москвы. В 1961 в Художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника прошла персональная выставка мастера. В 1970 был удостоен звания заслуженного художника РСФСР.
В 1981 потерял зрение, работы позднего периода созданы вслепую.
В 2003 в галерее «Ковчег» прошла совместная выставка произведений Рыбченкова и Стефанского «Чувство времени».
Произведения Рыбченкова находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном музее А. С. Пушкина, Музее истории города Москвы, Смоленском Государственном историческом архитектурно-художественном музее-заповеднике и других.
_______________________________
К 105-летию Бориса Федоровича Рыбченкова
6 августа исполняется 105 лет со дня рождения художника, уроженца г.Смоленска Бориса Федоровича Рыбченкова (1899-1994).
Творческая судьба Бориса Рыбченкова начиналась на сломе эпох - в годы Первой мировой войны и революции, а продолжалась в советскую эру. Бесконечно многоликое время, то размеренно текущее, то бегущее стремглав оказалось истинным героем его творчества.
Рыбченков очень рано пристрастился к рисованию и осенью 1915 года поступил в Киев-ское художественное училище. В 1918 году он возвращается в Смоленск, где принимает активное участие в общественной и художественной жизни города. Вместе с другими ху-дожниками украшает улицы и здания к первой годовщине Октябрьской революции, работает инструктором подотдела искусств, выступает в местных газетах со статьями и очерка-ми, становится одним из руководителей изостудии Пролеткульта.
В начале 1920 года Рыбченков уходит в Красную Армию и работает в "Окнах сатиры РОСТА" Реввоенсовета Западного фронта. Он делает рисунки к окопным листовкам и во фронтовые журналы, расписывает вагоны агитпоездов.
После демобилизации Рыбченков направляется в Петроградские государственные свободные художественные мастерские (бывшая Академия художеств), откуда осенью 1921 года переводится в Москву, на живописный факультет Вхутемаса. Но и в эти годы не теряет он живой творческой связи с родным Смоленском.
Рыбченков прожил долго, почти столетие. Учил школьников, иллюстрировал книги, вы-ставлялся в СССР и за рубежом, много и охотно запечатлевал пушкинские места. В его ра-ботах немало заводов и строек 30-50-х, но чаще пейзажи: смоленские, уральские, северные земли, бульвары и окраины Москвы.
В 1961 году в Художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника состоялась большая персональная выставка художника. Несколько работ автор передал тогда смоленскому музею: "На Каме", "Пробуждение", "Ранняя весна", "К вечеру" и др. К 1100-летию Смоленска Рыбченков выполнил большую графическую серию рисунков и акварелей, которые также подарил городу (хранится в музее). Смолянам она хорошо из-вестна и по печатному изданию - альбому репродукций.
В 1981 году Рыбченков потерял зрение и все последующие годы работал "вслепую". Ряд работ последнего периода творчества художника ("Декабрь", "На земле Смоленской" и др.) также входит в собрание Смоленского музея-заповедника.
Борис Рыбченков проявил себя и в литературном творчестве. Он - один из авторов из-вестной книги "Художники земли смоленской". Частично опубликованы воспоминания и рассказы Рыбченкова. А созданный им в 1927 году совместно с Чеславом Стефанским ру-кописный альманах "Бедлам" не так давно переиздан коллекционным тиражом в сто номерных экземпляров.
www.museum.ru/N19032
____________________________
Парадокс Рыбченкова
Авторы: Сергей Кочкин
Рыбченков прошел через весь энтузиазм утонченного формализма, погружался во все тонкости искусства, столь дорогие «парижской школе»... это, бесспорно, врожденный колорист; его кисть любит нюансы, варьирующиеся до бесконечности. Он не резок, но точен. Его талант неоспорим, и эмоция для него, даже если она с неудачами, все же более благотворна, чем неподвижность, окоившаяся на его прежних успехах. А.М. Эфрос
Борис Федорович Рыбченков (1899-1994) — народный художник России (звание присвоено в 1991 году). Работы его хранятся более чем в сорока музеях России (в том числе в Третьяковской галерее, в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Государственном Русском музее) и за рубежом. Художник родился в Смоленске, там же окончил начальное училище. В 1915 году поступил в Киевское художественное училище, в котором преподавали Н.И. Струнников, А.А. Крюгер-Прахова, Ф.Г. Кричевский, М.А. Козик, И.Ф. Селезнев. Весной 1918 года, после закрытия училища Державной Радой Украины, вернулся в Смоленск, где продолжил образование в Археологическом институте. Состоявшееся в Смоленске знакомство с Казимиром Малевичем и краткое увлечение супрематизмом подвигло Рыбченкова на поступление в Петроградскую Академию художеств, где он первоначально стремился усовершенствоваться именно в этом направлении. В Академии Рыбченков учился у Н.И. Альтмана и А.Т. Матвеева. Болезнь легких заставила навсегда расстаться с Петроградом и Академией. В августе 1921 года Рыбченков по конкурсу был принят во ВХУТЕМАС на живописный факультет, где учился у Л.С. Поповой, А.Д. Древина, Н.А. Удальцовой и А.В. Шевченко. В Москве художник жил с 1921 года.
Автор выражает глубокую признательность вдове художника Ольге Федоровне Цветковой за предоставленную возможность работать с личным архивом Б.Ф. Рыбченкова и опубликовать уникальный иллюстративный материал, а также воспоминания Бориса Федоровича о Москве 1920-30-х годов.
Художник, хочет он этого или нет, всегда является летописцем своего времени, своей эпохи. Это относится, конечно, к художникам подлинным, настоящим, любящим искусство в себе, а не к тем кокетливым фиглярам, обожающим себя в искусстве, коим наплевать на окружающий мир, лишь бы пооригинальнее выглядеть.
Чем сложнее, драматичнее эпоха, тем сложнее, драматичнее путь художника к своим удачам. Чем ярче эти удачи, тем дороже за них платит сам художник, и тем они ценнее в творческом и историческом плане.
В середине 20-х годов обстановка в Москве, впрочем, как и во всей нашей стране, была весьма сложной и противоречивой. Разобраться в ее исторической неизбежности не так-то просто оказалось не только нам — вчерашним студентам ВХУТЕМАСа. Ведь ни стипендий, ни трудоустройства, ни мастерских на Масловке тогда не было.
Реальностью тогда являлась только свобода и ничего больше. Трудное было время!
В кармане пусто, на бирже труда — длинные хвосты безработицы, а вокруг шумел нэп с его роскошными гастрономическими прилавками в магазине Елисеева на Тверской. Используя опыт своей юности, я в конце концов устроился преподавателем рисования и черчения в московские школы. Это, во-первых, избавляло от жизни впроголодь, да и на краски и холст что-то оставалось. И, во-вторых, что самое главное, приходилось много ходить и ездить по Москве, поскольку одна школа была на Петровке, вторая — у Подвесков на Каляевской, третья — на Новослободской у Бутырского Вала. В этих поездках и хождениях я наблюдал жизнь московских улиц и жадно зарисовывал увиденное в альбом по памяти. Это, конечно, не исключало моей работы с натуры на улицах Москвы. Так появилась у меня тема Москвы, тема, ставшая главной на всю мою жизнь.
Проживал я тогда на Вятской улице за Бутырской Заставой. Окраина, в общем, рабочая: парфюмерная фабрика «Свобода», бывшая «Ралле», железоделательный завод «Трансмиссия», бывший Густава Листа, шелкопрядильная фабрика и несколько других предприятий. Общим для московских окраин, в том числе и для Бутырской Заставы, была настороженно чуткая, походившая на дрему, тишина многочисленных проездов, тупиков, переулков и улочек, проезжая часть которых все еще оставалась незамощенной. Во дворах и двориках по-городскому скромная зелень травы, кустарников, деревьев. Редкое украшение — на перекрестке будка телефона-автомата, чаще неисправного, а совсем рядом раскинулся старинный Петровский парк с тенистыми аллеями столетних дубов и вязов, с прудами, прохладными в летнюю жару.
Самой изумительной особенностью московских окраин были дома в один, два, реже в три этажа, почти все деревянные. Те же из построек, в которых недавно размещались торговые лавки, были выстроены из кирпича. При всей скромности архитектурных форм и наружного декора почти каждый из этих домишек имел свое лицо, свой экстерьер, свое выражение. Каждый из них был покрашен в свой, только ему присущий цвет, безжалостно обработанный временем. Это же самое безжалостное время наложило отпечаток на неповторимую вдовью красоту окраин.
Я понимал, что время всех этих Масловок, Хуторских, Полтавских, Башиловок прошло, что наступающая новая жизнь сотрет в конце концов весь этот дорогой сердцу одно-, двухэтажный мирок.
Мне было жаль расставаться с этой сиротской красотой окраин. Жаль, несмотря на то, что и теплый санузел, водопровод и мусоропровод, и все прочее, что стучалось в нашу жизнь, куда как удобнее, комфортабельнее, чем колонка для забора воды на углу Вятской или Полтавской, чем общая уборная во дворе.
Я много писал и рисовал у себя за Бутырской Заставой и на Красной Пресне, в Сокольниках и у Семеновской Заставы. Писал и рисовал обобщая, соединяя в один образ взятое из разных мест. Так были написаны: «Уходящая окраина», «Зимний пейзаж с зеленым домом», «За заставой. Проходной двор», «Окраина. Светлый вечер» и другие.
Во второй половине 20-х — самом начале 30-х годов навязчиво запоминающейся приметой времени московских окраин были некоторые молодые люди и их подруги, из так называемых фабричных, обычно украшавшие собой улицы и переулки по вечерам и в нерабочие дни. Одевались они тогда «по последней моде». У парней на ногах тупоносые ботинки «Вера-бульдог», черные брюки клеш, белые рубашки апаш с открытым воротом, на голове черный шерстяной берет. Подруги их тоже одевались соответственно «моде»: туфельки на шпильках, расклешенные белые юбки, черные жакеты, белые шерстяные береты на мелко завитом «перманенте», обесцвеченном перекисью водорода.
Молодежь эта не шумела, не буйствовала на улицах, но считала себя хозяевами положения, и у многих из парней в карманах, на всякий случай, лежали «финки».
Мне нравились эти парни и их девушки. Было в их вызывающей непокорности что-то незащищенное. Из-за не очень удачно сложившихся личных моих дел и обстоятельств мне импонировали их попытки самоутверждения.
При ближайшем же знакомстве с ними, к сожалению, выяснялась их интеллектуальная ограниченность.
Их корпоративность оказывалась явно наигранной и распадалась по самым несерьезным поводам и причинам. На поверку большинство из них были просто одинокими. Ни бравада под хмельком, ни похвальба делами, еще не содеянными, ни игра в любовь «до гроба» с подругами не могли скрыть глубины их одиночества.
Невольно, как-то без моего подчеркнутого желания, эта наивнофрондирующая молодость вошла в мои полотна об окраинах Москвы, такие как «Прогулка», «Одинокая», «Трое под часами». К 1933 году я имел уже небольшие сериалы полотен под общим названием «Одинокие» и «Где-то на окраине». Вот, в общем, и все, что можно сказать о причинах возникновения и создания картин на эти темы.
Вполне закономерно окраины меняли свой облик, исчезали с этих улиц парни в беретах и расклешенных брюках с их подругами в том же «шикарном» стиле.
Уже разрабатывался и частично вступал в жизнь Генеральный план реконструкции Москвы.
С 1928 года Борис Рыбченков — член общества художников «Рост», затем один из постоянных участников выставок группы «Тринадцать» (1929-1931). Мастеров этой группы роднило яркое ощущение подлинности жизни, передача остроты впечатлений. Вступив в группу как рисовальщик, Рыбченков, тем не менее, всегда считал себя прежде всего живописцем. Раскрывающийся в своем глубинном звучании цвет — основа основ его мировосприятия. По своей живописной культуре «Тринадцать» связаны с французским импрессионизмом и постимпрессионизмом. В конце 1920-х — начале 1930-х годов работы Бориса Федоровича много странствовали по миру, но сам он за границей ни разу не был. «Моя Ницца» — так называл художник район, прилегающий к Савеловскому вокзалу, где прожил более семидесяти лет. «Визитная карточка» Рыбченкова 1930-х годов — это его пейзажи окраинной Москвы. Их интимно-романтический настрой отражает глубоко личностное восприятие мира. Такие работы, как «Москва. Пейзаж с пожарной каланчой» (1934), обладают драгоценным качеством свежего, впервые брошенного взгляда. Деликатная гамма розовых и голубых оттенков овладевает вниманием зрителя. Гармония и живописность — вот свойства, которые притягивают в рыбченковских работах:
В написанных динамичной кистью полотнах художника начала 1930-х годов ощущаются скрытые ритмы пейзажа. Это с особой естественностью раскрывает красоту города. Он живой, и в его изменчивости, слитой с круговоротом природных циклов, художник чувствует нечто эмоционально близкое душе человека. «Я шел по Малой Дмитровке в сторону Подвесков, — пишет Борис Федорович в одном из рассказов-воспоминаний. — Сгущались и синели майские сумерки. С веселым звоном пробегали трамваи. Резко «клаксонили» новые учрежденческие «форды». Рядом со мною шли люди. Их много, и все они разные. Они улыбались, хмурились, смеялись, молчали, кого-то ждали, торопились. Улица в этот час походила на полноводную реку в крутых берегах. На Садовой за Кудрином полнеба плавилось в кровавом багрянце заката. По чьей-то команде разом зажглись золотистые цепочки фонарей. Множеством цветных огоньков уютно засветились окна домов. Жемчужно-сиреневая дымка вечера становилась все плотнее. Жадно вслушиваясь в похожую на рокот отдаленного прибоя музыку городского шума, я в полушепот повторял строчки недавно написанного стихотворения: «Люблю по улицам бродить в вечерней полутьме и по душам поговорить с собой наедине:«
Первая персональная выставка Рыбченкова открылась весной 1934 года в клубе «Авиахим» на углу бывшей Ямской улицы и бывшего Ленинградского шоссе, теперь проспекта. Скупая рецензия на нее в «Вечерней Москве» называлась «Не видно человека». Борис Федорович вспоминает, что из всего того, что было написано им, организатором выставки были отобраны «десятка три пейзажей унылых окраин Москвы, наиболее, по его мнению, «реалистических» и наименее безлюдных. Свою драматическую роль здесь сыграло мое страстное увлечение передачей стыков времени суток. Это когда вечер еще не наступил, но день уже погас, когда вечер сопротивляется ночи, а последняя не желает ничего уступить рассвету и т. п. Именно в такие минуты жизнь на рабочих окраинах затихает, пустеют улицы или на них еще не начиналась городская жизнь. Отсюда закономерное безлюдье на моих пейзажах».
«Мои работы тех лет, даже самые лучшие, — отмечал художник, — вызывали раздражение и гнев среднего ранга критики. Били наотмашь. В одной из московских газет обзорная статья о выставках заканчивалась фразой: «В картине Б. Рыбченкова «Утро на Садовой» просматривается силуэт Сухаревки. Вот она, философия художника! За что его кормят советским хлебом? Это контрреволюция!» Такой радикализм ничего хорошего не сулил. Свободный от синдрома идолопоклонства молодой критик А. Бассехес в одной из своих статей высоко оценил мои полотна «Прогулка», «Утро на Садовой» и другие, что в какой-то мере утяжелило и без того печальную его судьбу». Картина «Утро на Садовой» была приобретена в Третьяковскую галерею, а затем, по сведениям художника, уничтожена. Сейчас о ней можно судить только по черно-белым репродукциям из журнала «Искусство» за 1933 год (4, с. 75) и газеты «Вечерняя Москва» (13 сентября 1933 г.).
В конце 1930-х годов и позже условность приема пластической деформации в работах Рыбченкова уступила место реальной трактовке света и предметной материи. Уже нет динамичных движений кисти, наложенных мастихином цветовых сплавов. Эмоция теперь не выражает себя столь непосредственно, как в работах 1920-х — начала 1930-х годов, но существует, воплощаясь в тонкой передаче состояний природы. В небольшом (размером с открытку) этюде «В зимней дымке. На Масловке» (1947) есть свойственная живописи Рыбченкова нюансированность цвета, который живет в каждом миллиметре работы.
В акварели «Москва. Петровско-Разумовская аллея» (1956) улица с фигурами высвечена заходящим солнцем, и возникающее здесь праздничное настроение художник длит, растягивает. Глубина пространства придает особую значительность обычной городской сценке. Этой аллеей художник часто ходил от мастерской на Масловке до метро «Динамо», попутно любуясь «скудными остатками былой красоты старинного парка, историей своей уходящего в глубину XVIII века». В его акварели все полнится солнечным светом, теплом. Переживание красоты Москвы для Рыбченкова — это тот диалог с городским пейзажем, который снимает плохое настроение, усталость, озабоченность. Эти «эмоциональные прикосновения» художник ищет и запоминает, вглядываясь в то, что обычно не замечаешь, проходя по знакомым улицам. Акварель написана в 1956 году, но в ней Рыбченков сохранил зерно «стиля «Тринадцати» — умение, как говорил Милашевский, «сократив мотивы в изображаемых подробностях, оставить их душу, их изюм, их экстракт, а это много труднее, чем выписывать подробности».
В 1935 году художник скатал в тугие рулоны все, что было написано им раньше, и забросил на антресоли. Он ушел в традиционную живописность. В этом был и плюс — постоянно накапливаемое мастерство. Но при том, что возможностей, средств выражения Рыбченков обретал все больше, «эмоция, благотворная для него» (А.М. Эфрос), не находила выхода. Пружина сжималась, ожидая освобождения. Творческое развитие шло достаточно ровно, но в этом был и своеобразный драматизм — отход от непосредственной эмоциональности, которая так привлекательна в его работах 1920-30-х годов. В одной из дневниковых записей художника 1960-х годов проскальзывает характерная мысль о том, что «свое любование новыми пейзажами бывших окраин Москвы, таких как Всехсвятское, Черемушки, Верхняя и Нижняя Масловки, Ленинградское шоссе, Кожухово, я, быть может, слишком тщательно перевожу в листы акварелей и рисунков, подцвеченных фетровым карандашом, возможно, даже в ущерб их эмоциональной стороне». В его рисунках фломастером, карандашом, в живописи маслом 1960-70-х годов утверждается аккуратная манера, совершенно не похожая на Рыбченкова прежнего.
Дальше события развивались непредсказуемым образом. В 1981 году Борис Федорович почти ослеп — осталось 0,02 процента левого бокового зрения. Творческий простой длился около трех лет, но постепенно Рыбченков научился наяву вызывать образы подкоркового зрения и, работая гуашью, стал переносить на бумагу пейзажи, натюрморты, композиции. Катастрофа с глазами внутренне освободила художника. Он смог увидеть глубину вещей. Его живописная манера стала уникально раскованной. Поэтичность, эмоциональность сближают «незрячие» работы с творчеством молодого Рыбченкова. Но в них есть нечто совершенно новое.
Это связано с непривычной способностью восприятия. Борхес писал: «Счастливые мгновения прошлого сливаются для нас в единый образ, различной яркости закаты — я вижу их каждый день — запоминаются как один закат». Внутренним зрением, как бы сквозь этот закат, который стал у Борхеса удачной метафорой, художник Рыбченков видит мир фонарей, тротуаров и струящегося над ними теплого воздуха.
Обаяние работы «Скоро вечер» (1993) чувствуешь сразу. Пьянящая легкость есть в этом пейзаже, свободный, пульсирующий ритм. Плывущие пятна позволяют поймать ощущение целого, в детали уже не вглядываешься. Работа, исполненная в несколько касаний кисти, напоминает французскую школу второй половины XIX века (И. Йонгкинда, например). Только это Петровское-Разумовское в Москве, а не Париж. «Над Москвой оседали апрельские сумерки, — пишет Борис Федорович, — и все вокруг казалось «закутанным в цветной туман» неуловимо странной синевы. В такие редкие вечера удивительно хорошела Москва. Как-то смягчалась ее неприглядная неустроенность. Даже от уличных фонарей исходило подобие уюта. Каждый раз по-новому ощущал я эту туманную новизну и поэтическую неясность очертаний московских улиц и площадей». В пейзаже Рыбченкова нет ничего описательного. Словно колыхание прозрачной фаты в теплом воздухе, взгляд отмечает белый ореол вокруг фонаря. Он вносит в пейзаж что-то женственное, щемящую нотку красоты. Деталь эта явно не натурная, но поразительно естественная. Вечернее солнце, на которое можно спокойно смотреть, наплывает. Раскрываясь ему, земные предметы обнаруживают свой внутренний свет. Дом в глубине кажется хрустальным, взгляд скользит в физически ощутимом излучении света.
Этот смягчающий контуры свет замечаешь в природе, глядя на тонкие стволы деревьев на закате. Небо золотое, желтое — уводящее взгляд. На его фоне зелень крон приобретает удивительно приятный оттенок. Но все же это не просто переданное художником впечатление городского пейзажа. Белое в центре работы уловлено мягкими, дышащими пятнами цвета, уютно обволакивающими, словно внутренняя оболочка морской раковины, в которой вызревает жемчужина.
Особенно значимо в произведениях Рыбченкова небо. Хочется назвать его «внутренним небом» картины, потому что сама она воспринимается как микрокосм, а не как простой пейзаж. Для каждой работы мастер просчитывал последовательность и количество намывок (иногда до двадцати) — задуманное им небо. Тончайшая гамма пейзажа «На Садовом кольце» (1991) включает серо-голубые, матово-зеленые, охристые, фиолетовые оттенки. Общий полутон создает спокойное, камерное ощущение. В небольшой работе «Осеннее золото» (1993) проглядывающее бирюзовое лучистое «окошко» неба наполняет осеннюю пустоту леса легким звучанием. Осень здесь — фарфоровый колокольчик. Пространство гуаши «Москва — 1939 — У Cавеловского вокзала» (1991) выглядит зеркальным экраном, отразившим прозрачную игру красок высокого утреннего неба. Здесь светло-красное пятно автобуса на минуту уподобилось алой колеснице Авроры.
В работе «Зима на Вятской» (1991) взгляд останавливает живописная сложность мглистого неба. Из нее рождаются контуры пейзажа, вплоть до прозрачных прикосновений почти водой, а не краской. Небо заглядывает в аквариум двора, где протянулась гирлянда пятен-водорослей и сонной рыбкой проплывает трамвай. Стоящие во дворе гаражи, облепленные белыми шапками снега, придают городской зиме уютный вид. Аналогичная точка зрения была выбрана художником и при работе над пейзажем «Вид с десятого этажа» (1992). Дома высятся над деревьями, как скалы в море. Меняя размер и конфигурацию вплывающих друг в друга пятен гуаши, художник переходит от одного плана к другому, вплоть до горизонта. Нет ни ветвей, ни крон деревьев, лишь зеленые пятна. Но в нее, эту густую фактуру, всматриваешься, как в заросли шиповника, в которых то возникают, то пропадают красно-коричневые ягоды, нарядные белые, розовые цветы. Или же это цветущие лишайники, мягкий лесной мох? Дома построены людьми, но на картине они выглядят боровиками, сидящими во мху. Под створкой перламутрового неба окружающая их болотистая вязь копит тепло, перерабатывая его благодатную энергию. Глубокое небо хранит в себе царство июльского дня. Путешествуя взглядом от миллиметра к миллиметру работы, вспоминаешь отсветы летнего солнца, ощущения от нагретых солнцем крыш. Прикосновением кисти, едва заметной нитью белил (отлив на небе), художник необычайно утончил всю вещь, выделив то место в картине, которое обозначает точку спокойного равноденствия в природе. Обжитость, уют лесного мира увидел Рыбченков в обычной городской застройке. Это момент естественного согласия между художником и городским пейзажем.
По словам Бориса Федоровича, его занимали не сами по себе московские дома и домишки, а возникающая в эмоциональном соприкосновении с натурой «неповторимая цветовая кантилена, рождавшая в моей душе что-то свое, необъяснимо прекрасное». Щемяще нежна работа «Москва — 1925 — Летний вечер за заставой» (1994). Детали этого «одно-, двухэтажного мирка» неразличимы. В розовом небе — едва заметный лиловатый отсвет. В умиротворении наступающих сумерек затихает спор винно-красного и синего. Город засыпает, окутанный порфировой мягкостью цвета.
Подкупает душевная открытость, с которой Борис Федорович передает окружающий обиходный мир. В «Натюрморте с бутылкой» (1993) предметная материя превращается в излучение чистого цвета. Изображены бутылка, стакан с водой, а ощущение — море в его безмятежном сиянии. Отстраненный от мелочей взгляд художника создает особый, рыбченковский масштаб.
Кажется, что «незрячие» работы Рыбченкова в притягательной гармонии цвета передают то, что доступно восприятию лишь в счастливые, редкие моменты. Поймать этот миг и обратить его в живой, автономно существующий мир удается Рыбченкову.
Борис Рыбченков — все еще не открытый художник. В последние годы Борис Федорович написал несколько сотен работ. Но после смерти художника большинство акварелей и гуашей было вывезено в Чикаго. И об их судьбе, к сожалению, ничего не известно.
http://www.russiskusstvo.ru/journal/1-2005/a78/
 Еще файлов 29 из этого альбома
Еще файлов 29 из этого альбома