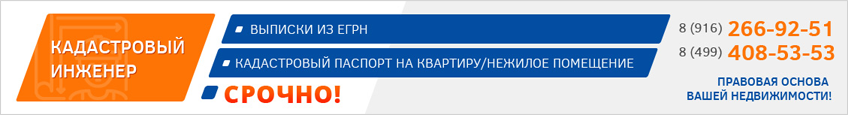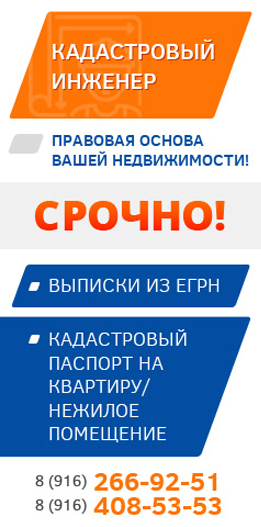11 октября 2014
Егоров Евгений Васильевич Yevgeny Yegorov. Автор: Ивасив Александр Иванович
(в альбоме 10 файлов)
Изобразительное искусство / Живопись / Авангардизм
Разместил: Ивасив Александр
Егоров Евгений Васильевич
Yevgeny Yegorov
(1901 - 1942)
Русский советский живописец, график, педагог.
В 1920 – 1923 годах учился в Саратовском художественно-промышленном училище у В.М.Юстицкого, командированного А.В. Луначарским на Волгу «создавать пролетарское искусство», а также у тонкого живописца, мастера лирического пейзажа П.С.Уткина.
Участник выставок с 1922 года («Выставка картин современных живописцев в пользу голодающих», Саратов). Через год состоялась и первая персональная выставка Егорова.
В 20-е – 30-е годы Егоров – один из наиболее активных и самостоятельных мастеров среди саратовских художников. Именно в это время создаётся большая часть его произведений, ярко проявляется оригинальный талант в сатирическо-гротесковом жанре.В 1934 году Егоров, вынужденный из-за обнаруженного туберкулёза оставить преподавание в Саратовском художественном техникуме, переезжает сначала в Дмитров, затем в Москву, вступает
в члены МОСХ. Будучи главным художником подмосковного Дмитрова, создаёт большие полотна на темы строительства канала Москва – Волга, реконструкции и новостроек Москвы.
Тяжелая болезнь не оставляла сил для дальнейшей работы. Многое из задуманного осталось невоплощённым. Художник, эвакуированный с семьёй в родной Саратов, умер в начале 1942 года.
Произведения Егорова хранятся во многих музеях страны, в том числе и Третьяковской галерее, Русском музее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Каракалпакском ГМИ им.И.В.Савицкого.
Евгений Васильевич Егоров родился в Саратове в 1901 году. Он учился в Саратовском художественном училище в бурное и интересное время (1920-1923 гг.). В эти годы в училище преподают замечательные и очень разноплановые художники. Сначала Е. Егоров занимается в мастерской В.М. Юстицкого, который командирован А.В. Луначарским в Саратов "создавать пролетарское искусство". В. Юстицкий в начале 20-х годов организует авангардный театр ПОЭХМА (поэты, художники, музыканты), шумовой оркестр, придумывает проект движущегося моста через Волгу, оформляет улицы города в праздники. Егоров принимает самое активное участие во всех начинаниях В. Юстицкого, педагога и друга. До последних дней жизни Евгений Васильевич поддерживает с ним близкие отношения. Второй учитель Е. Егорова - Петр Саввич Уткин, тонкий живописец, мастер лирического пейзажа. Именно благодаря наставничеству столь разных мастеров творчество самого Егорова содержит разнообразные стилистические и образные искания. В экспозиции соседствуют экспрессионистская графика из серии "Старый Саратов", примитивистские живописные работы ("В саратовской пивной", "Чайная Феди Курчавова") и реалистические, спокойные и умиротворенные, волжские пейзажи.
Безусловно, привлекут внимание зрителей картины и графические листы, посвященные Саратову времен НЭПа. Пожалуй, никто так гротескно и иронично не описал жизнь нашего города и нравы его обитателей тех лет. С 1922 года художник начинает участвовать в саратовских выставках, а с 1925 года является экспонентом выставок в Москве и Ленинграде. Е. Егоров, наравне с В. Юстицким и А. Сапожниковым, называется столичными критиками одним из самых интересных художников - саратовцев.
С 1934 года он живет в Москве, участвует в выставках и много работает, но, тем не менее, в 1940-м году пишет следующее: "Если бы я был на Волге и работал меньше, чем сейчас, я знаю - все сделанное было бы значительнее, потому, что это главное, мое, то, что я люблю и хочу".
___________________________
Живописец, график
Детство провел в Саратове и Смоленске. В 1919 был мобилизован на службу в Красную армию, оттуда направлен на учебу в Саратовский художественно-практический институт; занимался под руководством П.С. Уткина, В.М. Юстицкого.
Жил в Саратове (до 1932), затем — в Дмитрове и Москве. Писал портреты, пейзажи, натюрморты, создавал картины и зарисовки жанрового содержания.
Автор живописных произведений: «Портрет дочери Ирины» (1920), «Чайная» (1923), «Уборка поля» (1925), «Саратовская пивная “Венецианская капелла”» (1926), «Батумский порт» (1927), «Натюрморт со шляпами» (1928), «Кулак» (1929), «Улица в Дмитрове» (1933), «Портрет М. А. Егоровой» (1937), «Канал Москва — Волга» (1937), «Яхромский шлюз» (1939), «Перед грозой» (1939), «Портрет Героя Советского Союза Б. Туржанского» (1939), «В праздничный день на канале» (1940); графических работ (гуашь, акварель, карандаш): «Клоуны-эксцентрики» (1920), «Чайная Феди Курчавова», «В мясной лавке», «Картежники», «Драка в трактире», «У ортопедической мастерской», «Сватовство», «В ЗАГСе» (все — середина 1920-х), «Река Кура» (1927), «Волжские овраги» (1928); серии автолитографий «Прошлое Саратова» (1920-е), рисунков «Волга у Саратова» (1920–30-е; тушь). Занимался монотипией.
С 1922 — участник выставок (выставка картин современных живописцев в Саратове). Член АХРР (1925), общества «4 искусства» (1926–1929). Экспонировал свои работы на выставках: картин (1924), 2-й весенней выставке картин (1925), картин, рисунков и скульптуры (1925, 1927), 4-й областной художественной выставке (1940) в Саратове, Общины художников в Ленинграде (1925).
Преподавал в Саратовском художественном техникуме (1925–1932).
Мемориальные выставки художника состоялись в Саратове, Дмитрове (обе — 1970), Перми (1972), Москве (1984).
Творчество представлено во многих музейных собраниях, в том числе в Саратовском государственном художественном музей им. А.Н. Радищева, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Государственном литературном музее, Музее истории города Москвы и других.
____________________
Ефим Водонос
"Гроза моментальная навек": о творчестве Евгения Егорова
Творческое наследие многих художников, выступивших в самом начале 1920-х годов, по большей части утрачено в силу обстоятельств эпохи, а сохранившиеся произведения зачастую рассеяны по различным собраниям и почти не изучены. И не всегда они принадлежат тому, что было наиболее значительным и ценным в творчестве их авторов. Незафиксированные прижизненной критикой, не воспроизведенные на страницах специальных изданий, они как бы выпали из исторического бытия. Нередко то же самое можно сказать и об очень талантливых мастерах, активно работавших в эти десятилетия. Вышедшая в 2004 году в Москве книга Ольги Ройтенберг, посвященная малоизученным русским художникам 1920–1930-х годов, получила свое название от горестного восклицания одного из них: “Неужели кто-то вспомнил, что мы были…”
Творчество Евгения Егорова, умершего от туберкулеза в 1942 году и полузабытого в ближайшие десятилетия, получило новую жизнь на рубеже 1960–1970-х годов, в пору плодотворного пересмотра наследия искусства первых послереволюционных десятилетий. Не зря говорят о глубокой подспудной преемственности этих эпох, хотя взаимоотношения между ними были гораздо сложнее, чем принято думать: далеко не все в забытом наследии 1920-х воспринималось его воскрешающими вполне адекватно: очень многое излишне романтизировалось, а потому упрощалось. Таким уж осталось оно в культурной памяти, сохранившей, прежде всего, светлые стороны ушедших годов. А потому так трудно воссоздать во всей полноте и жизненной достоверности саму живую атмосферу той поры.
Искусство– надежный исторический источник для осмысления непосредственного восприятия эпохи ее деятелями. Если, конечно, мы научились понимать его специфический язык, ту самую “эмоцию формы”, в которой отражалось переживание момента. Образная ткань картины говорит с нами поверх различных стилистических тенденций, деклараций различных группировок, постановлений и установок крепнущей тоталитарной власти. И Евгений Егоров, который был зорким и честным наблюдателем жизни, какие-то существенные стороны ее, безусловно, отразил.
Евгений Васильевич Егоров родился в 1901 году в Саратове. В его школьные годы семья на лет несколько уезжала в Смоленск, а затем вернулась в родной город. В 1919 году он был мобилизован в Красную армию. В 1920-м направлен на учебу в Саратовский художественно-практический институт. Его учителями стали замечательные педагоги Валентин Михайлович Юстицкий и Петр Саввич Уткин. Роль каждого из них в человеческом и творческом становлении молодого художника трудно переоценить. Но стилистически их влияние было, скорее, взаимоисключающим, и можно только удивляться тому, как восприимчивый ученик сумел самобытно преломить творческое воздействие каждого из них.
Евгений Егоров принадлежал к художественному поколению, которое активно самоутверждалось в момент наметившегося отката авангардной волны, раскрепостившей творческое сознание этой генерации живописцев и графиков. Буйный порыв новаторов конца 1910-х годов, когда азартно отрицались основы традиционного художественного восприятия, тогда уже явно тормозился: сказывалось то, что именуют “усталостью группового воодушевления”, а также общественная невостребованность смелых технических экспериментов живописцев левого фронта. Все это усугубилось изменившимся отношением к ним новой власти, к 1922-му году явственно обозначившей в своей художественной политике решительный поворот вправо.
Евгения Егорова отличали врожденный вкус и готовность к восприятию новых эстетических идей и веяний. Впервые он участвовал на “Выставке картин современных живописцев” (в помощь голодающим) в мае 1922 года. И, судя по названию несохранившихся работ (две композиции “Конструкция”), явно произведениями авангардистского плана. Но вскоре оставил этот путь. Егоров чуждался “головных” выдумок, нарочитого формального экспериментирования, технического изобретательства и сторонние влияния органично претворял в собственный свой образный язык. А потому он оставался (при всех стилистических перекличках) художником самобытным, по-своему отразившим мироощущение сложной и трагической эпохи.
В апреле 1923 года художник выступил на “Выставке картин Саратовской школы живописи”. Под школой понималось не особое стилевое направление: речь шла о произведениях учеников и совсем недавних выпускников Саратовского художественно-промышленного института. В ее каталоге обозначено пять его жанровых полотен и портрет хранителя Радищевского музея Д.В. Прокопьева. Некоторые из них известны по любительским снимкам, другие только по описаниям современников. И уже в этих работах очевидно влияние стилистики немецкого экспрессионизма, которое затронуло тогда довольно широкий круг отечественных мастеров.
Дмитрий Прокопьев был, вероятнее всего, инициатором персональных экспозиций В.М. Юстицкого и совсем еще юного Е.В. Егорова в том же 1923 году. Он написал предисловия к их каталогам. Конечно, к Егорову он был несколько строже, чем к его старшему товарищу и наставнику. И все же прокопьевский текст свидетельствовал о чуткости к особенностям дарования совсем еще молодого мастера и осознании его творческих перспектив.
Персональный дебют Егорова был замечен и местной прессой. Снисходительно-назидательный отзыв о выставке художника принадлежал маститому журналисту Николаю Михайловичу Архангельскому, выступавшему в качестве рецензента чаще всего под псевдонимом Марко Брун. Ни особенности егоровского дарования, ни его масштаб критиком не были угаданы. Он явно недооценивал большой потенциал молодого художника, не почувствовал его удивительно раннюю творческую зрелость.
Огромное дарование и подлинная страсть к искусству рано выделили Евгения Егорова среди сверстников. Его персональная выставка запомнилась молодым художникам тех лет даже больше, нежели экспозиция его учителя Валентина Юстицкого. Вероятно, она в большей мере соответствовала меняющемуся направлению живописных исканий. У Егорова поворот к изобразительности был ощутимее и органичнее, чем у более привязанного к авангардным исканиям Юстицкого. Заметнее было и предпочтение мотивов гротескно-экспрессивных, хотя и появившихся, вероятно, не без влияния более опытного мастера, во всяком случае, синхронно с ним. Возможно, что так врезалась в память выставка и потому, что это было самостоятельное и неожиданно яркое выступление их товарища и соученика, а не педагога и уже известного художника.
“Мне особенно памятна она как первая персональная выставка молодого художника,– вспоминал живописец Хаим Гольд.– Запомнились с этой выставки следующие работы: во-первых, “Негр”. Это был образ негра, размышляющего над простой арифметической задачей, написанной на черной доске фона портрета. Работа эта была довольно живописной и искренней, затем среди множества других выделялся городской пейзаж (г. Саратова) с чайной– “Чайная Курчавова”. Кажется, на этой выставке была небольшая однофигурная композиция “Бреющийся”. Она– единственная работа, носившая печать поисков в области конструктивизма (следы влияния левых течений)”.
Родные и близкие, а также коллеги и ученики художника вспоминали о тонком юморе, острой наблюдательности, об особом артистизме, отличавшем Евгения Егорова и в искусстве, и в повседневной жизни. Он охотно и часто музицировал, участвовал в различных театрализованных постановках, выступал на диспутах, увлекался цирком, кукольными представлениями, был замечательным рассказчиком, нередко импровизируя в кругу друзей, постоянно рисовал шаржи, карикатуры, типажные наброски.
Е.В. Егоров выступил как самостоятельный художник в пору нэпа. Эйфория эпохи военного коммунизма, перенасыщенной разного рода экспериментами в жизни социальной и в искусстве, сменилась нелегким отрезвлением. Революция перевернула вековой уклад. Нэп отчасти вернулся к нему, но как бы в окарикатуренном виде. Многое из того, к чему в прошлом привыкли и попросту не замечали, после первых лет революции стало по-особому зримым, воспринималось с болезненной обостренностью.
“Мы разливом второго потопа перемоем миров города”,– прокламировал в “незабываемом восемнадцатом” Владимир Маяковский. Вскоре стали очевиднее результаты этой вселенской “помывки”. Потоп схлынул, оставив густо заиленное пространство. Провинциальный же быт первых годов нэпа был поистине фантасмагоричен.
Это время казалось вынужденным откатом революционной волны. Лихорадочно-уторопленный темп ломки извечного уклада жизни сменился вдруг попятным движением. В сутолоке куда более сытых, но не слишком-то радостных будней менялась и сама творческая установка. На героические и трагические впечатления революционных лет постепенно наслоились совсем иные, располагающие скорее к горечи и скепсису. Стали очевиднее судьбы людей, раздавленных новой жизнью, и тех, кто лихорадочно приспосабливался ко всем ее поворотам.
Взбаламученное российское море постепенно успокаивалось, и за кипением страстей проступали устойчивые ценности бытия: мир природы, простые и извечные человеческие заботы и радости. Это и стало поэтической темой многих работ художника. В других же произведениях он с гротесковой верностью воссоздавал “накипь” возрождающейся жизни, далеко не самые светлые стороны тогдашнего быта. Евгений Егоров оказался достаточно чутким и зорким, чтобы увидеть своеобразную его колоритность. Есть у него среди картин этого времени и такие, где переживание пресловутого “угара нэпа” смягчено чуть ироническим любованием. Таков программный портрет его молодой жены, тоже художницы, Музы Александровны Егоровой (Троицкой).
“Портрет– всегда двойной образ: образ художника и образ модели””,– утверждал великий скульптор Антуан Бурдель. Но иногда это и образ эпохи. В портрете жены живописец видел свою задачу не столько в выявлении психологической сущности модели, сколько в поиске характерного в самом времени– того, что стало знаковой его приметой. В образе вполне достоверном, с точно найденным сходством, нет ощущения отдельного мгновения, быстротечного мига жизни. Есть неторопливое “пребывание” в устойчивой длительности ее течения. Есть жизненная достоверность и типологическая характерность.
Такой была внутренняя установка творчества Егорова той поры. И не его одного. Достаточно с его изображением Музы Александровны сопоставить написанные в те же годы портреты собственных жен кисти Валентина Юстицкого или Алексея Сапожникова, чтобы убедиться в этом: общность выражения во всех “женах” сразу бросается в глаза, как и налет легкой шаржированности с оттенком любования, интонация едва заметного подтрунивания. Но егоровский портрет как бы формульнее: ощущение конкретной эпохи выражено молодым живописцем четче и нагляднее, нежели в портретах его старших и более опытных товарищей. Его образная сущность значительнее.
Наиболее убедительным достижением молодого мастера середины 1920-х годов стала его картина “Уборка поля”, где прозаически-бытовой мотив воспринимается бытийным. Мгновение заряжено бесконечной длительностью, будто отодвинутостью в пространстве и времени. Как это у Пастернака: “гроза моментальная навек”. Так и здесь, сохраняя живое ощущение внезапно увиденного, художник “оплотняет” его впечатлением временной протяженности образа, навсегда остановленного его кистью.
Кадр дан не крупным планом, а общим, как будто увиденным в перевернутый бинокль, пространственно удаленным, сочетая отчетливую конкретность мотива с неохватностью степного простора. Так придается “Уборке поля” некий сверхбытовой смысл, особая значимость. Этому способствует и цвето-световое решение: не натурное внешнее освещение, а цветовое излучение самой живописной поверхности, сияние пространства, полного внутреннего света.
Здесь художник сумел соединить реальную пейзажную изобразительность “вида” с музыкально-лирическим его истолкованием. В основе ее цветовая метафора: мягко диссонирующие густеющая синева неба и солнечный золотисто-желтый или розовеющий тон земли. Такова поволжская “вселенная” Егорова, в которой слышатся отзвуки кузнецовской степной сюиты, уткинских пантеистических пейзажей, а может, и более отдаленные веяния, впитанные настолько глубоко и прочно, что стали органической частью его образной системы. Это помогло ему превратить вполне заурядный мотив в некое таинство жизни.
И собственно волжские его пейзажи тех лет, “заземленные”, казалось бы, куда большей ландшафтной конкретностью, дают не только топографическое представление о берегах могучей реки. В них есть затягивающая в себя пространственность, веющая беспредельным покоем. Они как бы раздвигают границы непосредственно видимого, дают ощущение бесконечного. Именно эта неохватная пространственность становится темой живописного повествования в этих его невыдуманных пейзажах. Отталкиваясь от живых впечатлений, он никогда не ограничивался ими. Это продуманный образ пейзажного мотива, а не буквальный снимок с него. Здесь не столько изобразительно-информативный подход, сколько лирико-философский.
Художник всегда стремился дать точный образный эквивалент мотива. Самоутверждающаяся мощь выветрившихся холмистых берегов в его “Столбичах” уравновешена мягкой живописной лепкой форм, плавной ритмикой общего строя, тонкой сгармонированностью колорита.
Целостное восприятие распахнутого простора ощутимо во многих егоровских рисунках и акварелях, представляющих интереснейшую часть его художественного наследия. Иногда в них только разведка мотива для будущей картины, но чаще– это самостоятельная сфера творчества. Нередко эти пейзажи увидены как бы с высоты птичьего полета, позволяющего запечатлеть обобщенную картину волжской природы в ее первозданности. Егоров-рисовальщик стремительно набрасывал захватившие его черты конкретного пейзажа, обобщая и синтезируя их, выявляя свое обостренное чувство пространства, воссоздавая в большей мере “душу мотива”, а не детали и подробности.
Немногими штрихами обозначал он рельеф земли, пластику холмов, очертания деревьев, построек. Все крепко построено и ритмически организовано. Фигурки людей и животных, стилизованные под детский рисунок, придают ощущение особой свежести, наивной удивленности видения мира. Совершенно иначе воспринимаются более поздние рисунки панорамы только что возведенного саратовского авиационного завода, наглядно передающие размах и масштабность грандиозной стройки. В них больше внимания уделено четкой фиксации деталей и подробностей, они с протокольной точностью запечатлевали поступательный ход ведущихся работ.
Особое место в творчестве мастера занимают его сюжетные акварели, гуаши, рисунки тушью и литографии начала и середины 1920-х годов с характерной для них гротескной остротой характеристик, повышенной экспрессией рисунка, заметно деформирующего пластику предметов и фигур,– листы, воссоздающие трагедийные или трагикомические черты нэповской реальности.
Эмоциональный напор явно подчиняет себе в них образ увиденного, трансформируя его в соответствии с переживаниями художника. Верно замечено, что “гротеск– не стиль, но мироощущение”, проявление своего восприятия алогизма действительности. И в характере восприятия жизни, и в художественной концепции этого цикла рисунков и литографий, а также некоторых живописных работ Егорова сильнее ощутимо воздействие немецкого экспрессионизма с его программным антиэстетизмом и гротесковой выразительностью персонажей. Но влияние это проявляется в существенно претворенном виде.
Ощущение тревожной напряженности в автолитографии “У старой пристани”: штормящая Волга, мощно обобщенная трактовка баркаса, прибрежных построек, суетящихся у мостков фигурок, гребцов в лодке. Явное преобладание черного над белым усиливает экспрессивную заостренность пейзажного образа.
Другой лист из этой серии “Мотыжка поля” экспрессией трактовки фигур и фона напоминает манеру Винсента Ван Гога, одного из самых любимых художников Евгения Егорова. В русле той же традиции и с хорошим знанием графики Ф. Бренгвина, К. Кольвиц исполнен и лист “Грузчики”. Нарочитая огрубленность пластически очень выразительных фигур волжских грузчиков, которые, пригибаясь от физического напряжения, несут по мосткам на пароход груженые бочки, угаданная передача их мерного пружинящего движения придают образу жизненную достоверность и характерность. Острая наблюдательность художника, чутко уловившего изнуряющую тяжесть такого труда, не лишает эти исполненные драматизма листы своеобразной героизации преодоления. Отсюда ощущение подлинной монументальности, явственно проявившееся в них. Егоров часто повторял фразу Ван Гога: “Пусть это будет неправдой, которая правдивее, чем буквальная правда”.
Чутко-восприимчивый к осмыслению реальности, остро ощущавший уродство социального уклада, дисгармонию обыденного существования, он с гротесковой заостренностью воссоздает облики городских обывателей– пасынков новой жизни, поглощенных будничными заботами и невзгодами в таких типажно-жанровых литографиях, как “Точильщик”, “В парикмахерской”, “Шарманщик”. У этих людей нет шансов подняться над жалкой повседневностью, на которую их обрекли социальные катаклизмы эпохи.
Егоровские “душевные бедняки”, если воспользоваться терминологией Андрея Платонова, вовсе не объект бичующей сатиры: в его листах нет обличения и дидактики, а лишь горьковатый юмор, иногда сарказм. А гротескный рисунок “Маленький человек в большом городе” с комически-нелепой фигурой центрального персонажа, шаржированными характеристиками остальных вырастает до размеров своеобразного символа обывательского существования той поры. Это свидетельство смятенной растерянности многих некогда вполне благополучных людей “из раньшего времени” перед реалиями новой эпохи. Художник показывает в этой уличной сценке изнанку нэповского быта, и, при всей очевидной ироничности его взгляда, он не может скрыть подлинного драматизма происходящего.
Натиск обывательской стихии– тема целого ряда егоровских рисунков тушью середины 1920-х годов: “Чайная Феди Курчавова” (есть и живописный вариант), “В мясной лавке”, “Картежники”, “Драка в трактире” и акварелей “У ортопедической мастерской”, “Сватовство”, “В ЗАГСе”. Художник обыгрывает такие фарсовые сюжеты в откровенно комедийном ключе. Ирония пронизывает всю структуру этих листов. Остротой образных характеристик, смелостью пластической деформации, экспрессией самой манеры исполнения выделяются в этом ряду егоровские “Гробовщики”, видимо, эскиз несохранившейся картины.
Гротескны и живописные типажные портреты “Пенсионер” и “Старушка”– образы пораженцев жизни, отягощенные бедами неприютной старости, выпавшие из родственной среды, печально сосредоточенные на собственных переживаниях. Образный подтекст этих работ роднит их с портретными решениями Хаима Сутина, живописью которого на рубеже 1920–1930-х годов, по свидетельству художника В.А. Милашевского, очень увлекался учитель и друг Евгения Егорова Валентин Юстицкий. Егорову близко сутинское стремление к внешней утрированности облика модели ради более глубокого выявления неизбывного драматизма душевной жизни. Он тоже пытался сделать их убедительными эмоционально, а не просто схожими с оригиналом.
Гротеск некоторых других полотен Егорова отнюдь не трагичен. Картина “В саратовской пивной (Венецианская капелла)”, с ее несколько театрализованной сюжетикой, воссоздает быт скорее забавно-нелепый, чем страшный. В самом ее построении подчеркнутая инсценированность– мотив, отдаленно перекликающийся со знаменитым “Ночным кафе” Ван Гога. А содержательный смысл тут совершенно иной, лишенный вангоговского драматизма. Гротеск здесь лукаво-иронический с оттенком язвительного сарказма, но не более того.
Новейшее французское искусство саратовские художники той поры знали хорошо: сезанновское понимание цвета, строящего на плоскости объем, ощутимо в картине “Чайная Феди Курчавова”– тоже из круга нэповских полотен. Знакомство с напряженной красочностью полотен фовистов– в егоровских гуашах этой поры (“Клоун с гармошкой”, “В праздничный день”). Изысканной “французистостью” колорита отличаются натюрморты мастера: “Убитые вальдшнепы”– охотничьи его трофеи.
Очень интересен у Егорова довольно обширный цикл карандашных и перовых рисунков, акварелей, литографий и монотипий 1927 года, связанных с его летней поездкой на Кавказ. Чаще всего это пейзажи и пейзажно-жанровые композиции, посвященные Батуми и окрестностям этого города. Художник был очарован красотой грузинской природы, колоритностью бытового уклада, своеобразием жизни батумского порта, городских улиц и парков.
Некоторые рисунки возникли из набросков, сделанных им в движущемся поезде, прямо из окна вагона. Такова “Река Кура”, где, следуя за пластическим ритмом самого мотива, он мастерски передал широкий охват разворачивающегося пространства, ощущение его динамики и воздушности. Поездка на Кавказ оказалась необычайно плодотворной.
Уже в 1928 году у художника обнаружили туберкулез. В 1933 году вынужден был оставить Саратовский художественный техникум, где был одним из ведущих преподавателей. А вскоре с женой и маленькой дочерью переехал сначала в Димитров, а затем в Москву. В крохотной комнатке Дома художников на Верхней Масловке, которая служила и жильем для семьи, и мастерской, он продолжал, несмотря на тяжелую болезнь, упорно работать: рисовал и писал улицы Москвы и пейзажи Подмосковья, портреты, натюрморты, шлюзы канала “Москва-Волга”. Но постепенно темп его работы тормозился.
Это были самые трагические годы в его жизни: идеализирующий натурализм, настойчиво утверждавшийся в советском искусстве уже с начала 1930-х годов, имеющий официальную поддержку, всячески поощряемый и упорно насаждаемый, ему был органически чужд. Его искусство оказывалось не ко времени и не ко двору. Чудовищные условия жизни и прогрессирующая болезнь усугубляли ситуацию.
В своих пейзажах 1930-х годов, сохраняя живое ощущение тонко пережитых натурных мотивов, работал мягкими градациями цвета. Их высветленная зеленоватая и голубовато-серебристая гамма напоминает живопись коренных мастеров саратовской школы. Даже написанные вдали от саратовской природы, они лежат в русле местной живописной традиции: ее закваска оказалась для Егорова-пейзажиста определяющей. Но появляется в них меланхолическая отрешенность и какое-то безотчетно-тревожное чувство, вызванные, очевидно, обострением болезни художника, предчувствием скорой смерти. В октябре 1941 года, когда Москва стала прифронтовым городом, семья художника была эвакуирована в родной Саратов. Сам он был к этому времени уже в безнадежном состоянии. И в феврале 1942-го Евгений Егоров скончался.
Сейчас кажется странным неизбежное полузабвение столь талантливого живописца и графика, невольно оставшегося в силу трагически осложнившейся судьбы во втором эшелоне отечественного искусства. Его творческий потенциал обещал большее, но жизнь распорядилась по-своему.
Уже в 1920-е годы Е.В. Егоров был активным участником не только саратовских экспозиций, но и самых престижных московских и ленинградских выставок. Его полотна и графические листы, хотя и бегло, но с неизменной симпатией упоминала как саратовская, так и столичная критика. Многие его произведения были утрачены в годы войны, но сохранившиеся оказались в различных музеях и частных коллекциях. В 1970–2000-е годы прошли небольшие персональные выставки работ Евгения Егорова, появились краткие публикации, посвященные именно его творчеству. И все же настоящее исследование художественного наследия Евгения Егорова, думается, еще впереди. Осмысление реального вклада таких художников в отечественное искусство помогает понять действительную направленность и характер художественного процесса эпохи, судить о которых только по творчеству самых выдающихся мастеров было бы слишком опрометчиво.
http://magazines.russ.ru/volga21/2007/9/ef14.html
 Ваша оценка
Ваша оценка



 Еще файлов 10 из этого альбома
Еще файлов 10 из этого альбома