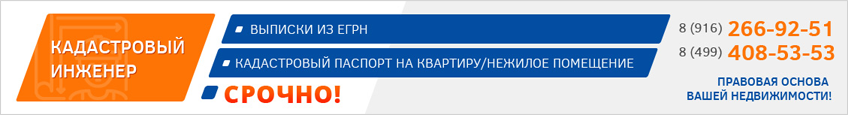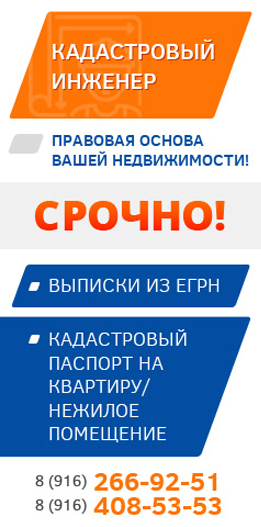29 октября 2010
Мустафа Мадьяр. Автор: Андрич Иво
Литература / Литература славян и народов СССР / Босния и Герцеговина / Альбом Андрич Иво
Разместил: Александр И
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
Перевод: Наталья Вагапова
Иво Андрич
Мустафа Мадьяр
Еще на рассвете собрались со всех кварталов музыканты с барабанами и начали подъезжать всадники, готовые выехать навстречу.
Вот уже четвертый день бурно торжествует Добой,[1] празднуя победу над австрийцами при Бане‑Луке.[2] Ликует вся Босния, но в Добое – особое торжество: в бою под Баней‑Лукой необычайно отличился Мустафа Мадьяр, уроженец этого городка. До Добоя докатились фантастические слухи о разгроме немчуры, о резне райи и о доблести Мустафы Мадьяра. А сегодня он приезжает.
Целый день горожане принимали облака пыли на дороге за приближающийся торжественный поезд. Лишь к послеполуденной молитве подоспели первые конники, возвращавшиеся из‑под Бани‑Луки, а к вечерней молитве в город въехал Мустафа Мадьяр в окружении трубачей и знамен. Он ехал пригнувшись к седлу и показался всем очень маленьким (видно, вырос в разговорах за долгие часы ожидания). Съежившийся, хмурый, закутанный в плащ, он походил больше на паломника, чем на того Мустафу Мадьяра, о котором ходило столько рассказов и песен.
Поспешно, не глядя по сторонам, проехал он сквозь толпу, не обращая внимания на ее приветственные возгласы. Не обернувшись и не сказав ни слова, вошел в свой высокий дом, а народ остановился у ворот смотреть, как снимают с лошадей тюки с добычей.
В третий раз возвращается Мустафа Мадьяр в свой высокий, покосившийся дом над рекой.
Кроме нескольких вконец обнищавших крепостных, это все, что досталось ему после раздела с братом от мота и пьяницы отца, хотя дед его Авдага Мадьяр, знатный потурченец[3] из старинного и почтенного венгерского рода, был богат и оставил немалое наследство.
Когда Мустафе было пятнадцать лет, отец умер, брат женился, и мальчика отправили в Сараево, в медресе. Там он провел четыре трудных полуголодных года. На двадцатом году жизни он вернулся в Добой, привезя с собой сундучок с книгами и скудными пожитками и большую зурну из черного дерева с окованными серебром отверстиями. Поселился он не у брата, а в этом доме с галереей.
Вернулся он сильно изменившимся. Над презрительно оттопыренными губами у него выросли небольшие усики, он ссутулился, стал мрачный и неулыбчивый, ни с кем не водил знакомства, ни с кем не разговаривал. Днем он ходил читать книги к городскому ходже Исмет‑аге, а ночью подолгу играл на зурне, и игра его слышалась далеко за рекой. А как только объявили набор в армию, он взял оружие, запер дом и отправился под командой Делалича в поход против России.
Долгое время о нем ничего не было известно. Однажды прошел слух, что он погиб, и, так как он недолго жил в городе и ни с кем не дружил, его скоро забыли. Но когда Делалич вернулся из похода, стали поговаривать, что Мустафа жив («Да еще как жив!»), что он прославился больше всех боснийцев и теперь в большой чести. А на шестой год он и сам неожиданно нагрянул в Добой. Многие его не узнали. Он был одет по‑стамбульски, нарядно и пышно. Побледнел, похудел и отпустил бороду. Отпер дом. Поздно ночью достал зурну, бережно завернутую в клеенку, и осторожно дунул в нее.
Ту‑у, ти‑ти‑та‑та‑а… Тишина с неприязнью встретила низкий звук.
Не хватало дыхания, пальцы утратили былую гибкость, мелодии забылись. Он спрятал зурну и предался пытке бессонницы, не оставлявшей его с тех пор, как кончились бои.
Пытка повторялась каждую ночь. Он вдруг забывал все, что с ним когда‑либо было, забывал, как его зовут, в полудреме угасала и память, и мысли о завтрашнем дне, оставалось только тело, свернувшееся в клубок под безмолвным жерновом темноты, по ногам пробегали мурашки, противно сосало под ложечкой, и холодной струей обдавал страх. Время от времени он усилием воли заставлял себя встать, зажечь свет и открыть окно, чтобы убедиться, что он еще жив, что темные силы еще не растерзали и не уничтожили его. И так до самого рассвета, когда тело наливалось тяжелым покоем и откуда‑то являлся сон, короткий, но благостный, дороже которого для него ничего на свете не было. Наутро – день, как и все другие. И снова все повторялось, но ему никогда не приходило в голову кому‑нибудь пожаловаться. Священников он презирал, а докторам не верил.
Когда после той первой ночи он вышел в город, при виде его все в кофейне подвинулись, давая ему место, но он не смог вызвать на своем лице улыбку, не сумел удовлетворить их любопытство рассказами о Стамбуле и о походах. И снова к нему стали относиться с пренебрежением, стали о нем забывать. А как только завязались бои в Славонии,[4] он уехал туда с первым отрядом, на заре, так же неслышно, как и приехал.
И снова прошел слух о его подвигах в Венгрии и в Славонии, о жестокой битве у устья Орлявы. Когда же австрийцы окружили Баню‑Луку и райя, загнав турок в крепость, принялась грабить город, боснийские отряды отошли к Врбасу. Но тут они снова столкнулись с превосходящими силами австрийцев и не осмеливались на них напасть, пока Мустафа Мадьяр не предложил свой план: подняться вверх по реке, сделать плоты, ночью спустить их на воду, а на рассвете перейти по ним реку и внезапно напасть на австрийцев.
Ночью, покуда готовили плоты, он прилег в ивняке у Црквины отдохнуть после долгого перехода. В последнее время ему все чаще являлись мучительные видения, разгонявшие и без того короткий сон и еще сильнее его изнурявшие. И теперь он только было заснул, как ему привиделись дети‑мальчики из Крыма. Столько лет прошло с тех пор, он и не вспоминал о них ни разу.
Мустафа ехал с конным отрядом. Преследуя противника, отряд решил заночевать в имении, брошенном хозяевами. Конники собирались уже ложиться спать, когда обнаружили спрятавшихся за шкафами четырех мальчиков. Это были беленькие, аккуратно подстриженные, хорошо одетые барские дети. В отряде было пятнадцать человек, почти все из Анатолии. Они набросились на мальчиков и всю ночь передавали их, полумертвых от ужаса и боли, от одного к другому. Когда рассвело, дети, опухшие, посиневшие, не в силах были стоять на ногах. В это время налетел сильный отряд русских, и турки бежали, не успев даже прирезать детей. И вот теперь он видит их перед собой, всех четверых. Слышит топот русской конницы. Хочет вскочить на коня, но путается в стременах, они выскальзывают, и конь рвется из рук.
Он проснулся в поту, запутавшись в плаще, который во сне старался сорвать с себя. Было свежо, темнота перед рассветом сгустилась. Он привел себя в порядок и перепоясался, не переставая отплевываться от бешенства и отвращения, вызванного гнусной пыткой подлого, исподтишка подобравшегося к нему сна.
Турецкое войско собралось на берегу, и рассвет уже брезжил, плоты подходили медленно и соединялись с трудом. От шума и голосов начали просыпаться и австрийцы по ту сторону реки. Часовые вот‑вот могли поднять тревогу. Медлить было нельзя. Мустафа подал знак плотогонам подтянуть канаты и убраться с плотов; отшвырнув ножны, он выхватил саблю и закричал во весь голос:
– Аллах! Бисмиллах![5] Кто верит в пророка… На неверных! На гяуров![6]
Аллах! Аллах! – подхватил его крик многоголосый вопль. Все бросились вслед за ним на плоты. И сразу увидели, что они поставлены слишком редко. Несколько человек свалилось в воду. Немногим удалось перепрыгнуть, большинство остановилось. Мустафа один вырвался вперед. Он перепрыгивал с плота на плот, как на крыльях летел над водой. Первые ряды турок еще не решались двинуться по плотам, а он уже был на том берегу и сразу, не оглядываясь, кинулся на оторопевших часовых. Увидев, что их предводитель оказался в одиночестве, турки поспешили за ним. Задние ряды напирали, грозя опрокинуть передние в воду. Так, с топотом и воплями, переправились первые отряды, хотя многие попадали в воду и теперь вопили из‑под качавшихся на воде плотов.
Столь быстрой победы давно уже не было. В минуту дрогнул огромный лагерь австрийцев, не ожидавших нападения в такое время, да еще со стороны реки. Обезумев, бежали целые отряды. Мустафа с трудом настигал последних, врывался в их ряды и рубил направо и налево молниеносно, очерчивая свистящей саблей сверкающий холодный круг. За ним с криками бросались его солдаты.
Осажденные турки вырвались из крепости, и в Бане‑Луке началась резня и грабеж райи.
Поздно вечером, после победы, Мустафа лежал около палатки, прижавшись грудью и ладонями к траве – ему все казалось, что мускулы его набухают, растут и вот‑вот от него оторвутся.
Вдали виднелись огни, слышались торжествующий визг грабителей и вопли побежденных.
– Все сплошная сволочь.
Впервые он подумал об этом сегодня утром, на рассвете, на берегу Врбаса, оказавшись между двумя толпами солдат (одна удирала, а другая от страха запнулась на плотах), и эти слова осели у него во рту горькой пеной, от которой он думает избавиться, произнеся их вслух.
– Все сплошная сволочь.
Кровь рвалась и билась в каждой жилке. А сон не шел.
С той ночи он совсем перестал спать; обычные час‑два перед рассветом заполняли новые и новые видения. Ни с того ни с сего из ночи в ночь, перемешиваясь в кошмарных оборванных снах, возникало давно забытое. И хуже всего была жуткая ясность, четкость, с которой виделось ему каждое лицо, каждое движение, – точно все это жило какой‑то своей, особой жизнью, имеющей свой собственный смысл. Он содрогался от ужаса при мысли о ночи. Но и самому себе он не в силах был признаться в этом страхе, а страх все разрастался, терзал его днем, прогоняя и самую мысль о сне, он жил в нем, с каждым днем все глубже впивался в его тело тоньше и бесшумнее шелковой нити.
Сегодня в третий раз он вернулся в свой дом. И вот теперь, вечером, с отвращением пробившись через горланящую толпу, ликовавшую на улицах Добоя, и отпустив сопровождающих, он снова, как загнанный зверь, бегал взад и вперед по галерее, скрипя половицами. Снаружи еще слышались запоздалые голоса, прославлявшие его и победу, а он все ходил и ходил, не решаясь присесть. Посмотрел на клеенку, в которую была завернута его старая зурна, на зеленый сундучок с книгами, но ни к чему не притронулся.
Горы слились с ночной темнотой, город умолк, с обрыва, из развалин, закричал сыч.
Мустафа прислонился к окну. Жар от бессонницы, и усталость после долгого пути, и равномерный стук сердца начали его усыплять. Но видение уже тут, прежде чем он успел заснуть. Да и спал ли он вообще?
Ему привиделась соседняя комната, забитая мусором и затянутая паутиной; в углу на сундуке сидит его дед, Авдага Мадьяр. С красным лицом, с короткой бородой и закрученными усиками. Он сидит молча и неподвижно, но в самом его присутствии заключен какой‑то особый смысл, невыносимая тяжесть и ужас, и Мустафа начинает задыхаться. Он вздрагивает. Обмирает, увидев, что в комнате темно, но не зажигает света, а продолжает шагать, не чувствуя ног, страх сковал его движения, как панцирь.
Он не мог остановиться. Он должен был все время двигаться, потому что в равной мере боялся и бессонницы и видений, подстерегавших его, как только он закрывал глаза. Продолжая шагать, он вдруг вспомнил Сараево, своего друга весельчака Юсуфагича, Чекрклинку, зеленый склон и на нем кладбище, вспомнил мягкую траву, на которой он в годы ученья часто засыпал среди дня, подложив под голову руку… Большего он не вынес, оседлал коня и тихонько, как преступник, под покровом темноты выехал из Добоя.
На другой день в городе с изумлением узнали, что он уехал, в поле напал на какой‑то обоз, людей ранил, а лошадей разогнал.
Он ехал то боковыми дорогами, то через села, избивая и преследуя христиан с такой яростью, что даже турки избегали с ним встречаться.
Подъехав к Сутеске,[7] Мустафа Мадьяр нашел монастырь запертым, будто вымершим. Настоятелю еще вчера рассказали, что из Добоя едет Мустафа Мадьяр, что он остервенел и избивает всех, кто ему попадается на дороге.
Мустафа ударил алебардой в ворота. Тишина. Чуть отъехал и оглядел монастырь. Огромная крыша. Маленькие окошки и крепкие стены. Сначала он решил поджечь монастырь, но ему стало противно и скучно при мысли, что надо искать солому и огонь. В конце концов ему стало смешно: огромное подворье, замолкшее перед ним, а внутри – монахи, маленькие, серые, как мыши.
– Быстро же они заперлись, ха‑ха‑ха!
Громко смеясь, он поехал дальше. Когда проезжал мимо монастырского кладбища, конь шарахнулся от белого креста, видневшегося из‑за ограды. Мустафа натянул поводья и остановился. Пока он успокаивал коня, проклиная монастырь и кресты, из‑за поворота дороги показались двое монахов. Один тащил сверток с книгами, а другой – короб с едой. Спрятаться было некуда, и они сошли в канаву у дороги и поклонились турку. Он остановился.
– Вы что, тоже оттуда, долгополые?
– Дай бог здоровья султану, оттуда, бег‑эфенди.
– А кто разрешил вам втыкать эти рога у самой дороги и пугать моего коня? А, свиньи и дети свиньи?
– Не наше это дело, бег.
– Что «не наше дело»? Кто разрешил?
– И визирь, и светлейший султан, – отвечал старший из монахов, высокий, решительного вида человек с густыми усами и умным взглядом.
Мустафа опустил правую руку, будто бы сразу успокоившись и подобрев, но не сводил с монахов неподвижного горящего взгляда, перед которым они, дрожа, опускали глаза.
– А что, у вас и фирманы[8] есть?
– Есть, есть, бег‑эфенди, а как же, все у нас есть.
– И от султана?
– Конечно! И еще от визиря, и еще один – от муллы из Сараева.
– Тогда сложи их все вместе и выбрось! Слышал? А если кто спросит, что ты делаешь, скажи: так мне велел Мустафа Мадьяр, который несется, как камень с горы, и не надо ему ни сна, ни хлеба, и нет для него закона.
Уже один его взгляд, безумный и застывший, не предвещал ничего хорошего; а от этих слов монахам стало совсем не по себе. Мустафа снял с седла подпругу и, протянув ее младшему, приказал ему связать старшего. Старший монах сам сложил руки за спиной, а младший стал неловко связывать его заметно дрожащими руками.
– Крепко связал?
– Крепко, бег.
Мустафа нагнулся, ощупал подпругу и, убедившись, что связано слабо, молча взмахнул алебардой. Монах откинул голову, и острие вонзилось в плечо так глубоко, что он без стона свалился на землю. А турок принялся бить его обухом и бил до тех пор, пока тот не поднялся и вместе со своим связанным товарищем не пошел перед конем. Кровь струей текла из раны и оставляла след на дороге. Мустафе вдруг пришло в голову пригнать их в Сараево, к своему старинному приятелю Юсуфагичу, богачу и известному шутнику. Но дорога пошла в гору, солнце зашло, раненый монах обессилел, то и дело терял сознание и падал. Напрасно Мустафа бил его по ребрам древком алебарды так, что отдавалось, как в пустой бочке. Они свернули в брошенную клеть у дороги. Монахи тут же свалились наземь один подле другого, а он спутал коня, расстелил плащ и лег. И сразу погрузился в сон, чего с ним уже давно не бывало.
Нет ничего слаще быстрого, глубокого сна.
Однако и эта мысль угасла, подавленная туманом и шумом воды. Это волнуется Врбас, на нем вереницей вырастают плоты, но не тяжелые, окровавленные, как тогда, во время боя, а легкие. Они плывут, тихо покачиваясь. И вдруг что‑то ворвалось в шум волн, исчезли плоты, а он оказался на жесткой земле. Откуда‑то послышался мерный шепот. Мустафа вскинулся, быстро открыл глаза и сам почувствовал, какие они невероятно большие, холодные и такие бессонные, точно он вообще никогда не спал. Прислушался. Шепот доносился из угла, где лежали монахи.
Раненый монах (это был послушник), предчувствуя близкую смерть, исповедовался старшему и, хотя получил отпущение грехов, не переставал лихорадочно повторять слова покаяния и обрывки молитв:
– Славлю тебя, господи боже мой, ибо ты самое большое богатство…
– Что бормочете, мать вашу поганую псам!
Мустафа схватил ружье и выстрелил в темный угол, где были монахи. Послышался вопль, потом стоны. Он вскочил, накинул плащ и вывел коня, забыв и про Юсуфагича, и про задуманную шутку с монахами. Поспешно, точно беглец, вскочил на коня.
Он ехал по лесу, постепенно успокаиваясь в ночной прохладе, а конь шарахался от бурелома и стриг ушами, прислушиваясь к далеким голосам. Так он ехал, пока не прорвалась тьма и где‑то на самом дне неба не забелел рассвет. Тогда он лег под деревьями и укрылся плащом. Холод ожег его, а тишина убаюкала. И сразу же ему привиделся сон.
Он оказался в самой гуще битвы на Орляве – стоит в расщелине между двух высоких замшелых бурых скал, с которых струится вода, и, прислонившись к ним спиной, отбивается от двух гайдуков[9] – братьев Латковичей, огромных и бесстрашных. Мустафа защищается с честью, но взгляд его то и дело отрывается от них, тянется куда‑то вдаль, к самому горизонту, туда, где песчаная равнина сливается с небом и где ему видится женщина в черном – лицо ее искажено страданием, руки прижаты к груди. Он знает ее и знает, почему она прижимает руки к груди, почему у нее такое лицо. И хотя он все это знает, он смотрит на женщину и вспоминает, как застал ее одну в доме какого‑то менялы в Эрзеруме и как она отчаянно сопротивлялась ему. Он все же отважно отбивается от гайдуков. Он хочет отогнать и женщину, и свои воспоминания и думать только об этих гайдуцких саблях, но гнев душит его.
– И ее с собой привели! Мало мне вас двоих, суки гайдуцкие! Может, еще кого приведете?
Он молниеносно отражает удары, но и гайдуки досаждают ему, стараясь попасть остриями сабель ему в глаза, он все теснее прижимается к скалам и вот уже чувствует сырость и холод.
Просыпается он застывший, с проклятием на слипшихся, искаженных судорогой губах. Солнце еще только встает, щекоча веки своими лучами.
Поняв, что спал опять недолго, что лишился и предрассветного спокойного сна, он взвыл от бессильной злобы, согнулся в три погибели и начал биться головой о землю. Он долго катался по земле, изрыгая пену, рыча и кусая свой красный плащ, а солнце тем временем подымалось над горами в бескрайнем небе.
Помятый и разбитый, он спустился с горы, ведя за собой коня. Остановился уже в долине, у источника. Светлая, толщиной с руку, струя воды падала на выдолбленный сосновый ствол. Выплескиваясь, она щедро увлажняла землю, сверкала в лужицах и болотцах, над которыми в ярком свете утра порхали бабочки и густой вуалью вились рои мошкары.
Конь долго пил, переступая копытами в луже и вздрагивая крупом и боками. Мустафа присел на край ствола, присмиревший и успокоенный свежим дыханием воды и утренним воздухом, ласкавшим лицо. Он посмотрел на свое отражение в воде, увидел черное как уголь лицо с запавшими тенями и вокруг головы плотный рой танцующих, пронизанных солнцем мошек, как легкий, колеблющийся ореол. Он невольно поднял руку, и в воде отразились скрюченные пальцы, погрузившиеся в жидкий, трепещущий блеск, но рука не почувствовала ничего – так крохотны и невесомы были тельца мошкары, пронизанные солнцем. Конь прянул, он тоже вздрогнул: рой взвился и рассеялся, и ореол разбился.
До полудня Мустафа ехал словно во сне, странно спокойный. Он собирался и ночью продолжить путь к Сараеву, но по дороге, на постоялом дворе у Омера, его задержал Абдуселам‑бег из Чатича, известный болтун и хвастунишка, с редкой бородкой и голубыми глазами. Других гостей на постоялом дворе не было. Абдуселам‑бег на все лады уговаривал его заночевать у Омера, рассчитывая попасть в Сараево завтра, чтоб весь народ и знакомые увидели его вместе с Мустафой Мадьяром. Мустафа согласился. Душный день клонился к вечеру, ближе подкрадывался сон – точнее, не сон, а страшная истома, в которой он все видит и все ощущает. Солнце печет, злость поднимается к самому горлу, душит его.
Он спросил только воды, напился и лег, даже не взглянув больше на Абдуселам‑бега, а хозяину пригрозил, что убьет всякого, кто попытается его разбудить, будь то курица, собака или человек.
Сначала он заснул, но тут же, как всегда, неожиданно перед ним появились мальчики из Крыма, беленькие, аккуратно подстриженные, но какие‑то застывшие, гладкие и сильные, они выскальзывали из рук как рыбы. И в глазах их нет ужаса, и зрачки не расширены, а смотрят на него неподвижно, в упор. Он задыхается, ловит их и одновременно все видит как бы со стороны. Он мучается, он в ярости, что у него нет сил поймать их и удержать, а за спиной у него кто‑то говорит:
– Изжарить их надо было, поймать – и на уголья… а теперь уже поздно.
Он в бешенстве. Да, верно, изжарить! И снова вскакивает и ловит их, но только впустую машет руками, бессильный и смешной, а мальчики ускользают и вдруг, как облака, начинают парить в воздухе.
Он просыпается, отяжелевший, потный, и, отдуваясь, мечется по циновке. День кончился, смеркается. Ему стало страшно. Пот на нем вдруг застыл. Хриплым голосом он окликнул Абдуселам‑бега, приказал принести кофе, ракию и сальную свечу.
Долго они сидели вдвоем и пили. Между ними – дрожащее пламя свечи, в углах – тьма и беспокойные тени, в маленьком окошке – кусочек синей ночи. Резко, неприятно отдавались голоса в пустой комнате.
Абдуселам‑бег много рассказывал о себе, о каких‑то сражениях, о своих предках. О том, как он стоял в карауле на Габеле.[10] Мустафа молчал, углубившись в свои мысли, и только зябко вздрагивал после каждого стаканчика ракии. Чтобы вытянуть из него хоть слово, Абдуселам‑бег заговорил о битве при Бане‑Луке, о том, как он любовался им, Мустафой, глядя, как он перепрыгивает с плота на плот, один врывается на вражеский берег и избивает австрийцев.
– Да разве из‑под одеяла что‑нибудь видно?
– Что‑о? Как ты сказал?
У Мустафы сверкнули глаза, а бег оторопел, не зная, то ли обидеться, то ли обратить все в шутку. Мустафа первый расхохотался, и бег за ним.
– Шучу, шучу!
– Да, конечно!
И Абдуселам‑бег продолжал рассказывать, как он расправлялся с германцами, обращенными в бегство Мустафой.
– У, я их, наверное, человек сорок порубил, всех до единого.
– Да, да.
– Попался вот один, маленький такой ростом, а проворный – как припустил, я за ним. Проворством меня бог не обидел. Я за ним, за ним, за ним…
– Ну и как, догнал?
– Сейчас услышишь. Вот поворот, вижу я: ослаб он, тут я его догнал и – чик! Как цыпленка.
– Кхе, кхе.
Мадьяр пофыркивает и отдувается, а бег разболтался не на шутку. Ночи, ракии и недалекому уму нет предела, один за другим следуют новые и новые удивительные подвиги, совершенные еще его дедом и прадедом; да и его участие в небольшой перестрелке при Габеле выглядит уже иначе.
– Аллах меня, что ли, таким создал, что я страха не знаю? Вышли мы в караул к Млечичу, все дрожат, перешептываются, а я поднялся на насыпь и запел во все горло, а ведь голосом меня аллах наградил – что твоя зурна. После влахи[11]расспрашивали, что это за герой такой у турок, а наши уж знают, что я – кто же еще?
– Врешь ты все.
Увлеченный собственным рассказом, бег не сразу расслышал.
– Что ты говоришь?
– Врешь, брат, много, – ответил Мустафа раздраженно и неохотно, судорожно кривя рот и покусывая усы.
Тут только бег очнулся от своих фантазий. Комната показалась ему темнее, чем на самом деле. Мерцает и клонится пламя свечи, над которым скрещивается их дыхание. Совсем рядом он видит разные, налитые кровью, недобро светящиеся глаза Мустафы, желтый, как у мертвеца, лоб и лицо над черной бородой. От обиды и ужаса бег вскочил. Низкий столик опрокинулся, свеча тупо ударилась об пол и погасла.
Инстинкт опытного солдата толкнул Мустафу, хоть он и был сильно пьян, назад к стене, ощупью он нашел свой плащ и оружие, вытащил пистолет. Между ними был опрокинутый столик, а в глубине комнаты – окно, которое теперь, в темноте, выделялось светлым квадратом. Он затаил дыхание и услышал в темноте мягкий свистящий звук: бег вытащил из ножен кинжал. И вдруг, словно припомнив другие бесчисленные случаи из своей жизни, он еще раз подумал в приступе дикой ненависти: сколько же сволочи на свете! Но только на секунду; тут же взял он себя в руки и быстро оценил обстановку.
«Бег – трус и лгун, а такие люди легко идут на убийство. Пистолета у него в руках нет, а для того, чтобы подкрасться ко мне, ему придется пройти мимо окна».
Он поднял пистолет, прицелился в середину оконного квадрата и стал ждать. И действительно, минуту спустя на фоне окна показалась рука, а затем окно заслонила фигура Абдуселам‑бега. Мустафа спустил курок. За звуком выстрела он не расслышал, как упал бег.
Старый Омер, хозяин постоялого двора, или ничего не слышал, или не посмел вмешаться.
Всю ночь без отдыха скакал Мустафа Мадьяр через лес. Усталый конь то и дело останавливался, шарахался от теней. Да и сам он начал вглядываться в причудливые очертания пней и их тени в светлой безлунной ночи. Он стал пугаться и объезжать то, что казалось ему странным и опасным. Ему вдруг почудилось, что от каждой коряги исходит особый, ей одной свойственный голос, шепот, зов или песня; тихие, еле слышные голоса перемежались и переплетались с тенями. Потом все звуки поглотило щелканье плети, которой он стегал коня. Но только он переставал стегать, снова роились, накатывали волной голоса. Желая заставить их замолчать, он и сам закричал:
– А‑а‑а‑а!
Но тогда лес ответил ему со всех сторон – из каждого дупла, с каждого ствола и листа донеслись громкие, обрушившиеся на него голоса:
– A‑o‑o‑o!
Он напрягался, кричал изо всех сил, хотя у него уже сжималось горло и не хватало дыхания, но бесчисленные, неодолимые голоса перекрывали его крик, а деревья и кусты угрожающе топорщились. Он мчался, не чувствуя под собой коня. Волосы у него вставали дыбом. Захлебываясь, он кричал не замолкая, пока не выехал на равнину, где голоса постепенно утихли и смолкли.
Рассвет застал его в Горице, близ Сараева. Он остановился среди сливовых садов. Конь каждую минуту спотыкался, ноги у него были сбиты в кровь, бока ввалились. Небо светилось розовым светом, пронизывавшим тонкие облака. Над городом, в котловине, лежал низкий туман, из которого, как мачты затонувших кораблей, торчали минареты.
Он провел рукой по влажному лицу. Попытался разогнать пляшущие черные круги перед глазами, мешавшие ему видеть и сияние дня, и город внизу. Он тер виски, вертел головой, но черные круги перемещались вместе с его взглядом, и все расплывалось, мрачнело, дрожало. Оглушала тишина, а в ней слышалось, как непрерывно шумит и бьется в жилах на шее кровь. Он не мог понять, где находится, не мог вспомнить, какой сегодня день. Подумал было о Сараеве, но в голову лезли и путались кавказские города со своими минаретами. Временами он совсем ничего не видел.
С трудом выбравшись из лабиринта садов и заборов, Мустафа въехал на улицы города и остановил коня у кофейни, где на просторной зеленой лужайке рядом с кладбищем и источником уже сидели, прихлебывая кофе, турки. Он слез с коня и подошел к ним. Грязный, в измятой одежде, он неуверенно ступал через тьму, застилавшую ему глаза. На мгновенье он увидел лица, окружавшие его, но они тут же исчезли, потом показались снова – опрокинутые, раздвоившиеся. Сел. Сквозь шум крови в ушах Мустафа прислушивался к разговорам, с трудом улавливая связь между отдельными словами. Говорили о гонениях, учиненных наместником султана Лутфи‑бегом.
После многочисленных и затяжных войн и в самом Сараеве, и по всей Боснии развелось множество пьяниц и бродяг, участились убийства, грабежи и всякие насилия. Когда султану надоели жалобы, он послал в Сараево своего наместника, наделив его специальными полномочиями. Этот высокий, бледный, с тонкими обвисшими усами человек, проходивший по улицам с видом отшельника, ссутулясь и не глядя по сторонам, был неумолим, жесток и скор на расправу. Никто не помнил такой беспощадной жестокости. Всех попавшихся в пьяном виде, или слоняющихся без дела, или тех, на кого донесли как на грабителей или убийц, Лутфи‑бег швырял в Жуту Табию,[12] крепость, где палачи‑анатолийцы душили жесткими шнурами всех подряд, без суда и следствия. Случалось, что за одну ночь душили по шестьдесят преступников. Райя ликовала. Турки начали роптать на чрезмерную строгость Лутфи‑бега. Тогда он приказал схватить двух торговцев, которые публично осуждали его, и они были задушены прежде, чем кто‑либо успел за них заступиться.
На улицах валялись трупы людей, которые погибли, отбиваясь от стражников. Все трепетало. Повсюду была кровь. Теперь, как никогда, можно было лишиться головы.
И сейчас турки, сидевшие в кофейне, говорили о строгостях наместника. Не решаясь высказать все, что думали, они только жалели, что погибло столько мусульман и среди них – герои и храбрецы. Какой‑то старик говорил укоризненно:
– Ей‑богу, захлестнет нас райя. Наши погибают, а крещеной сволочи расплодилось видимо‑невидимо.
Мустафа с трудом прислушался, и ему показалось, что это как‑то связано с его мыслями. Он напрягся и с усилием выговорил:
– И крещеной и некрещеной: все сплошная сволочь.
Все обернулись на его голос, охрипший, шипящий, почти шепот. И тогда только увидели, как он растерзан, испачкан зеленью травы и желтой глиной, какое у него почерневшее как уголь лицо. Увидели, что глаза у него налиты кровью – один зрачок выделяется черной точкой, что руки у него сводит судорога, что ворот разорван и вены на шее набухли, а левый ус искусан и намного короче правого.
Они переглянулись. Он, уловив сквозь надвигавшуюся на глаза кровавую пелену, как все лица оборачиваются к нему, подумал, что на него собираются напасть. И схватился за саблю. Люди вскочили на ноги. Те, что постарше, отшатнулись к стене, а двое помоложе, с кинжалами, встали впереди. Он опрокинул одного, но внезапно перестал видеть и во второго саблей не попал. Перевернул ступу, в которой толкли кофе, и, продолжая размахивать саблей как слепой, выбежал на улицу. Турки из кофейни – за ним. Стали собираться прохожие. Одни думали, что люди наместника ловят кого‑то, другие – что турки набросились на стражников Лутфи‑бега. В последнее время все привыкли к подобным потасовкам и с кровожадным злорадством принимали в них участие, не заботясь о том, на чьей стороне.
Мустафа, ничего не видя перед собой, наткнулся на калитку, и тут его окружили: с одной стороны – турки, выбежавшие из кофейни, с другой – прохожие. Множество рук вцепилось в него. С него сорвали джемадан, и он остался в рубахе. Чалма свалилась с головы. Рубашка трещала. Он отбивался неистово, не выпуская из рук сабли. Калитка не выдержала натиска толпы и с треском рухнула, многие, потеряв опору, упали, а Мустафа вырвался и, размахивая саблей, помчался вниз по крутой улице. Толпа кинулась за ним.
Он бежал, ничего не видя перед собой, лысый, голый до пояса, обросший шерстью. Сзади улюлюкала толпа:
– Держите его, он бешеный!
– Человека убил!
– Негодяй!
– Держи его, не пускай!
Прохожие безуспешно пытались его задержать. Одним ударом он свалил стражника, вставшего на его пути. Многие понятия не имели о том, почему за ним гонятся, но преследователей становилось все больше. Из ворот выбегали новые и новые люди. Лавочники подбадривали их криками со ступеней своих лавок, швыряли в него гирьками и деревянными сандалиями. Рядом с ним неслись перепуганные собаки. Хлопали крыльями и квохтали куры. Из окон высовывались любопытные.
И опять в его наполовину угасшем сознании сверкнуло: «Все сплошная сволочь. Всюду!»
Уже совсем без сил, он все же не сдавался и намного опередил преследователей. Он почти добежал до зеленого кладбища на Чекрклинке, когда из кузницы выглянул цыган и, увидев, что толпа гонит полуголого человека, бросил в него железным обломком и попал в висок.
Большая звезда сорвалась с тесного, темного неба, за ней осыпались мелкие. Вот и последняя погасла. Темно и жестко. Жестко. Это было последнее, что он почувствовал. Толпа приближалась.
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Ага – землевладелец, господин, уважительное обращение к состоятельным людям.
Актам – четвертая из пяти обязательных молитв у мусульман, совершаемая после заката солнца.
Антерия – род национальной верхней одежды, как мужской, так и женской, с длинными рукавами.
Аян – представитель привилегированного сословия.
Байрам – мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.
Бег – землевладелец, господин.
Берат – грамота султана.
Вакуф – земли или имущество, завещанные на религиозные или благотворительные цели.
Валия – наместник вилайета – округа.
Газда – уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв.: хозяин.
Гайтан – веревка.
Гунь – крестьянская одежда вроде кафтана.
Джемадан – род национальной верхней мужской одежды без рукавов, обычно расшитой разнообразной тесьмой.
Жупник – католический священник в жупе (приходе).
Ифтар – ужин во время рамазана после захода солнца, когда прекращается дневной пост.
Ичиндия – третья по счету обязательная молитва у мусульман, совершаемая между полуднем и закатом солнца.
Кадий – судья у мусульман.
Каймакам – наместник визиря или валии в уезде.
Коло – массовый народный танец.
Конак – административное здание, резиденция турецкого должностного лица.
Маджария – венгерская золотая монета.
Меджидия – золотая турецкая монета.
Мейтеб– начальная духовная школа у мусульман.
Мерхаба – мусульманское приветствие.
Министрами – служка в католическом храме.
Мудериз – учитель в медресе.
Мулла – мусульманин, получивший духовное образование.
Мусандра – стенной шкаф в турецких домах для постелей, убирающихся туда надень, и прочих домашних надобностей.
Мутевелий – турецкий чиновник.
Мутеселим – чиновник визиря.
Муфтий – мусульманский священник высокого ранга.
Окка – старинная мера веса, равная 1283 г.
Опанки – крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Райя – христианские подданные Оттоманской империи, букв.: стадо.
Ракия – сливовая водка.
Салеп – сладкий горячий напиток, настоянный на коре ятрышника.
Салебджия – торговец салепом.
Се имен – стражник.
Слава – праздник святого покровителя семьи.
Софта – ученик медресе.
Субаша – помощник паши.
Суварий – конный стражник.
Тапия – юридический документ на право владения недвижимостью.
Тескера – официальная справка.
Тефтедар – министр финансов, чиновник по финансовой части.
Улемы – мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.
Учумат – административная власть, здание, где помещается административное управление.
Фратер – католический монах францисканец, букв.: брат (лат.). Сокращение «фра» обычно прибавляется к имени монаха.
Чаршия – торговый квартал города, базар.
Чемер – узкий кожаный или холщовый пояс, в который, отправляясь в дорогу, прятали деньги; носился под одеждой.
Чесма – естественный родник, облицованный камнем или взятый в желоб; фонтан.
Чехайя‑паша – заместитель визиря.
[1] Добой – город на севере Боснии в долине р. Босны недалеко от ее слияния с реками Спречей и Усорой, известный с начала XV в. В XVII–XVIII вв. близ Добоя неоднократно разворачивались сражения между османскими и австрийскими армиями. В 1878 г. при оккупации Боснии австрийцы потерпели здесь жестокое поражение.
[2] Баня‑Лука – политический, экономический и культурный центр Боснийской Крайны, известный с конца XV в. и расположенный в живописной долине р. Врбас. Близ Баня‑Луки неоднократно встречались на поле битвы турецкие и австрийские войска.
[3] Так называли людей, принявших турецкую веру, ислам.
[4] Славония – область в междуречье рек Савы и Дравы, в XVI–XVII вв. входила в состав Османской империи и была нередко ареной жестоких и кровопролитных столкновений между турецкими и австрийскими войсками. Одно из таких сражений произошло на р. Орляве, левом притоке Савы. После Карловацкого мира 1699 г. по левому берегу Савы была областью т. н. Военной Границы, где пограничную службу, оберегая ее от турецких набегов, несли сербы и хорваты.
[5] Во имя аллаха! (тур.)
[6] Неверный, оскорбительное прозвище немусульман, главным образом христиан.
[7] Сутеска (или Королевская Сутеска) – известный францисканский монастырь в Боснии.
[8] Указы султана.
[9] Здесь: борцы против турецкого ига.
[10] Габела – город в нижнем течении р. Неретвы в Герцеговине, до австро‑венгерской оккупации 1878 г. был важным пограничным пунктом. По гипотезе мексиканского ученого‑историка Роберто Салинаса Прайса, высказанной в середине XX в., близ Габелы находилась легендарная античная Троя.
[11] Здесь: православный.
[12] Жута табия – башня в составе оборонительных сооружений в Сараеве, затем превращенная в темницу.
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »