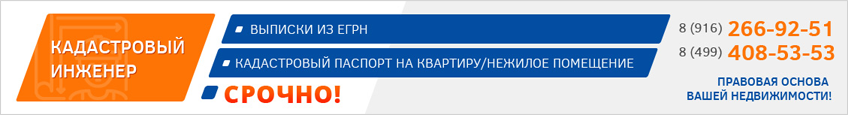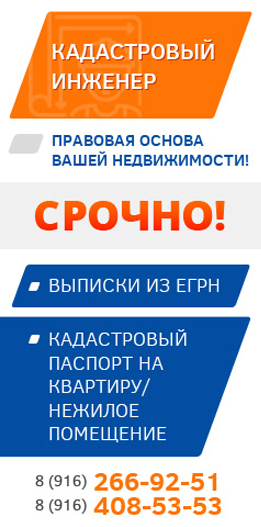29 октября 2010
Письмо, датированное 1920 годом. Автор: Андрич Иво
Литература / Литература славян и народов СССР / Босния и Герцеговина / Альбом Андрич Иво
Разместил: Александр И
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
Перевод: Наталья Вагапова
Иво Андрич
Письмо, датированное 1920 годом
Март 1920 года. Станция Славонски‑Брод. После полуночи. Неизвестно откуда дует ветер, и невыспавшимся и усталым пассажирам он кажется холоднее и сильнее, чем на самом деле. В вышине, среди рваных облаков, проплывают звезды. Вдали то быстрее, то медленнее движутся по невидимым рельсам желтые и красные огни, сопровождаемые пронзительными свистками или протяжными паровозными гудками, которым измученные путешественники приписывают свою меланхолию и скуку бесконечного томительного ожидания.
Мы сидим на чемоданах перед зданием вокзала у первого пути и ждем поезда, не зная ни времени его прибытия, ни времени отправления; известно только, что он придет битком набитый людьми и багажом.
Рядом со мной сидит мой давнишний знакомый и друг, которого я последние пять‑шесть лет почти не видел. Его зовут Макс Левенфельд, он врач и сын врача. Родился и вырос в Сараеве. Отец его совсем молодым человеком уехал из Вены и поселился в Сараеве, где приобрел большую практику. По происхождению он из евреев, давно принявших христианство. Мать моего приятеля родом из Триеста. Она была дочерью итальянской баронессы и офицера австрийского флота, потомка французских эмигрантов. Два поколения сараевских жителей до сих пор вспоминают ее манеру держаться, походку, умение одеваться. Она была из тех женщин, чья красота внушает невольное уважение даже самым примитивным или бесцеремонным людям.
Мы вместе учились в сараевской гимназии, только он был на три класса старше, что в школьные годы много значит.
Смутно припоминаю, что заметил я его сразу, как пришел в гимназию. Он тогда учился в четвертом классе, но одевали его еще по‑детски. Крепкий, здоровый «немчик» в темно‑синем матросском костюмчике с короткими штанишками, с вышитыми по углам широкого воротника якорями. На ногах – новенькие черные туфли и короткие белые носки. Голые икры, всегда розовые, были уже покрыты светлым пушком.
Тогда между нами не было, да и не могло быть близости. Нас разделяло все – возраст, внешний вид, привычки, общественное и имущественное положение родителей.
Гораздо лучше я помню то время, когда я был в пятом, а он в восьмом классе. Тогда это был сильно вытянувшийся подросток с голубыми глазами, выдававшими необычайную восприимчивость и живость ума, одетый хорошо, но небрежно, с растрепанными светлыми волосами, которые то и дело падали густыми прямыми прядями то на одну, то на другую щеку. Мы встретились и подружились во время одного из споров, затеянных в парке нашими товарищами из старших классов.
Наши гимназические споры не имели ни границ, ни авторитетов, мы посягали на все принципы, до основания сотрясали словесной взрывчаткой все философские системы. Все, разумеется, оставалось на своих местах, но нам самим наши страстные речи казались решающими для нас и нашего будущего, они предвещали наши великие подвиги и грядущие метания.
После одной оживленной дискуссии я, трепещущий от возбуждения и уверенный в своем триумфе (впрочем, точно также, как и мой оппонент), направился домой. Макс присоединился ко мне. Впервые мы остались вдвоем. Мне это льстило, поднимало меня в собственных глазах и поддерживало мое упоение победой. Он расспрашивал меня о книгах, которые я читаю, и смотрел на меня внимательно, точно видел впервые в жизни. Я отвечал, сильно взволнованный. Вдруг он остановился, посмотрел мне прямо в глаза и совершенно спокойно сказал:
– Знаешь, я хотел тебе заметить, что ты неточно цитировал Эрнста Геккеля.
Я почувствовал, что краснею. Земля медленно уходила у меня из‑под ног, потом вернулась на свое место. Конечно, я цитировал неточно, я запомнил цитату по какой‑то дешевой брошюре, да к тому же, наверное, в плохом переводе. Весь мой триумф перешел в чувство стыда и угрызение совести. Светлые голубые глаза Макса смотрели на меня без жалости, но и без малейшего злорадства или чувства превосходства. Макс повторил злосчастную цитату в ее подлинном виде. А когда мы дошли до красивого дома его родителей на берегу Миляцки, он крепко пожал мне руку и пригласил меня завтра после обеда зайти к нему, посмотреть книги.
Вечер следующего дня стал для меня событием. Впервые в жизни я увидел настоящую библиотеку, и мне словно открылась моя будущая судьба. У Макса было много книг на немецком языке, кое‑какие французские и итальянские книги, принадлежавшие его матери. Он показывал их мне спокойно, и его невозмутимость вызывала у меня еще большую зависть, чем сами книги. Это даже была не зависть, а безграничная радость и желание в один прекрасный день вот так же свободно вращаться в мире книг, от которых, как мне казалось, исходили свет и тепло. Макс и говорил точно читал, и чувствовал себя уверенно в мире славных имен и великих идей, а я дрожал от волнения, от ощущения своей ничтожности перед великанами, в чей мир я входил, опасаясь неминуемого возвращения в жизнь, которую я оставил за порогом.
Мои вечерние визиты к старшему товарищу становились все более частыми. Я быстро совершенствовался в немецком языке, начал читать по‑итальянски. И домой, в свою бедную квартирку, я стал приносить эти книги в красивых переплетах. Школу я запустил. Все, что читал, казалось мне святой истиной, которую я воспринимал как свой высший обет, изменить которому, не потеряв уважения к себе и веру в себя, было невозможно. Я знал одно: все это надо читать и самому писать подобные же вещи. Ни о какой другой жизненной цели я и не помышлял.
Особенно мне запомнился один день. Это было в мае. Макс готовился к выпускным экзаменам без волнения и без сколько‑нибудь заметного напряжения. Он подвел меня к маленькому, отдельно стоявшему шкафу, на котором золотом было написано «Helios Klassiker‑Ausgaben».[1] Помню, он сказал мне, что шкаф куплен вместе с книгами. Даже сам шкаф показался мне святыней, дерево его словно излучало свет. Макс достал томик Гете и начал читать «Прометея».
Он читал стихи каким‑то новым, показавшимся мне незнакомым голосом, и видно было, что он читал их уже бесчисленное количество раз.
Закрой свое небо, Зевс,
Парами туч!
Мальчишествуй,
Сшибая, как репьи,
Дубы и гребни гор!
О, только бы моя земля
Стояла крепко,
И хижина, что выстроил не ты,
И мой очаг,
Что я воспламенил –
Тебе на зависть.
В конце каждой строки он равномерно, но сильно ударял по ручке кресла, на котором сидел; волосы падали по обе стороны его раскрасневшегося лица.
Здесь я творю людей
По своему подобью –
Род, на меня похожий,
Пусть страждут, пусть плачут,
Пусть знают радость и наслажденье
И тебя презирают,
Как я.[2]
Таким я его видел впервые. Я слушал его с удивлением и даже с некоторым страхом. Потом мы вышли на улицу и там, в теплом сумраке, продолжали разговор о прочитанном стихотворении. Макс проводил меня до моей поднимавшейся в гору улочки, потом я проводил его до берега, снова он меня, потом я его. Стемнело. Прохожие все реже попадались на улицах, а мы все шагали туда и обратно той же дорогой, рассуждая о смысле жизни, о происхождении богов и людей. Особенно мне запомнилось одно мгновение. Когда мы в первый раз дошли до моей неприглядной улицы и остановились подле какого‑то покосившегося серого забора, Макс странным жестом вытянул перед собой левую руку и как‑то тепло, доверительно произнес:
– А знаешь, я атеист.
Над завалившимся забором цвела разросшаяся бузина, распространяя сильный, тяжелый аромат, казавшийся мне запахом самой жизни. Стояла торжественная тишина, и небесный свод, усыпанный звездами, виделся мне совсем иным, чем раньше. От волнения я не мог произнести ни слова. Я только чувствовал, что между мною и моим старшим товарищем произошло нечто очень важное и что мы не можем сейчас просто разойтись по домам. Так мы и пробродили до глубокой ночи.
Макс сдал выпускные экзамены, и мы расстались. Он уехал в Вену изучать медицину. Некоторое время мы переписывались, потом переписка оборвалась. На каникулах мы встречались, но прежней близости уже не было. Затем началась война, которая нас совсем разлучила.
И вот, через несколько лет, мы столкнулись на этой скучной обшарпанной станции. Оказывается, мы вместе ехали из Сараева, сами того не зная, а теперь вместе ждем белградского поезда.
В нескольких словах мы рассказали друг другу, как прожили военные годы. Макс в первый год войны закончил университет, а потом в качестве военного врача побывал чуть ли не на всех австрийских фронтах, и всегда в полках, где служили солдаты‑боснийцы. Отец его во время войны умер от сыпного тифа, мать после этого уехала из Сараева и поселилась в Триесте у своих родственников. Последние несколько месяцев Макс провел в Сараеве, устраивая свои дела. С согласия матери он продал отцовский дом на берегу Миляцки и большую часть обстановки. Теперь он направлялся к матери в Триест, а оттуда собирался в Аргентину или, возможно, в Боливию. Это еще не совсем решено, но ясно одно – Европу он покидает навсегда.
От фронтовой жизни Макс огрубел, располнел, одет он, насколько я мог разглядеть, как солидный деловой человек. Напрягая зрение, я угадываю в темноте его большую голову с густой светлой шевелюрой, вслушиваюсь в его голос, с годами ставший ниже и мужественнее, в его типично сараевский выговор, смягчающий все согласные, а гласные растягивающий и произносящий нечетко. Хотя в языке его ощущается некоторая неуверенность.
Он по‑прежнему говорил точно читал, употребляя множество непривычных, книжных, научных выражений. Но это, пожалуй, было единственное, что осталось от прежнего Макса. Ни о поэзии, ни о литературе не упомянул ни разу. (О «Прометее» и речи не было.) Сначала он говорил о войне вообще, причем с большой горечью, скорее в самом тоне, чем в словах, с горечью человека, уже не ждущего понимания. (Для него в этой страшной войне не было, так сказать, противных сторон, они смешались, слились друг с другом, полностью потерялись одна в другой. Вообще страдания отняли у него способность видеть и понимать все остальное.) Помню, как он поразил меня, заявив, что рад за победивших, но в то же время ему их жалко, ибо побежденные яснее видят то, к чему они пришли и что им нужно делать, а победители даже и не подозревают, что их ожидает впереди. Он говорил горьким и безнадежным тоном человека, который многое потерял и теперь может говорить все, что угодно, прекрасно сознавая, что никто ему ничего за это не сделает и что ему самому от этого не станет легче. После первой мировой войны встречались среди интеллигентов такие «разгневанные» люди, разгневанные особым образом на жизнь вообще. Эти люди не находили в себе ни способности примириться и приспособиться, ни сил принять решение и пойти против течения. Макс мне показался одним из таких.
Наша беседа вскоре приостановилась, потому что ни ему, ни мне не хотелось затевать спор, увидевшись в столь необычном месте да еще после стольких лет разлуки. Поэтому мы заговорили о другом. Собственно, говорил он. Он и теперь употреблял изысканные выражения, тщательно строил фразы, как человек, привыкший общаться больше с книгами, чем с людьми; говорил он холодно и рассудочно, без прикрас и околичностей, точно открыв учебник медицины и читая симптомы своей болезни.
Я предложил ему сигареты, но от ответил, что не курит, причем ответил сразу, с отвращением и чуть ли не со страхом. Я все закуривал одну сигарету от другой, а он говорил с какой‑то нарочитой беззаботностью, словно отгоняя другие, более тяжелые мысли:
– Ну вот, мы с тобой и выбрались на широкую дорогу, а это значит, что мы взялись за ручку двери, ведущей в большой мир. Мы покидаем Боснию. Я сюда никогда не вернусь, а ты вернешься.
– Как знать? – ответил я задумчиво, под влиянием свойственного молодости тщеславия, которое тянет видеть свою судьбу в дальних странах и на необычных дорогах.
– Нет, нет, ты наверняка возвратишься, – говорил мой спутник уверенно, точно ставя диагноз, – а я так и буду всю жизнь носить в себе память о Боснии как своего рода боснийскую болезнь, причина которой то ли в том, что я родился и вырос в Боснии, то ли в том, что больше не вернусь в нее. Впрочем, все равно.
В необычном месте, в необычное время и разговор приобретает необычный характер, точно во сне. Я смотрю на отяжелевшую, съежившуюся от холода фигуру старого друга и думаю о том, как мало он похож теперь на юношу, взмахивавшего рукой и декламировавшего: «Закрой свое небо, Зевс…» Думаю о том, что же с нами будет, если жизнь будет продолжать изменять нас с такой быстротой и основательностью, и что перемены, которые я чувствую в себе, все же к лучшему. И вдруг замечаю, что мой приятель снова говорит. Я оторвался от своих мыслей и прислушался. Слушал я с таким вниманием, что мне показалось, будто вся вокзальная суета вокруг меня улеглась, и только его голос рокотал в бурной ночи:
– Да, я и сам долгое время думал, что проживу всю свою жизнь в Сараеве, как мой отец, буду лечить детей и кости мои будут покоиться на сараевском кладбище. Однако уже то, что я видел и пережил в боснийских полках во время войны, поколебало мою уверенность. Когда же прошлым летом после демобилизации я провел в Сараеве всего три месяца, я окончательно понял, что не смогу остаться там на всю жизнь. Мысль же о том, чтобы поселиться в Вене, в Триесте или в любом другом австрийском городе, вызывает у меня тошноту. Потому я и стал подумывать о Южной Америке.
– Ну, хорошо, а позволительно ли спросить, что именно гонит тебя из Боснии? – спросил я весьма неосторожно, что, впрочем, было тогда свойственно людям моего возраста.
– О, разумеется позволительно, только ведь этого не расскажешь вот так, на ходу, в двух словах. Если же постараться выразить в одном слове все, что гонит меня из Боснии, то я скажу: ненависть.
Макс быстро поднялся со своего места, точно внезапно натолкнулся в своей речи на невидимую стену. Я тоже вдруг осознал всю реальность холодной ночи на вокзале в Славонски‑Броде. Ветер дул все сильнее и все более холодный, вдали мигали и переливались огни, посвистывали маневренные паровозы. Исчез из виду и крошечный кусочек неба, видневшийся над нами, только дым и туман покрывали теперь славонскую равнину, на которой человеку недолго и увязнуть по самые уши в жирном черноземе.
Во мне родилось и стремительно росло гневное и непреоборимое желание опровергнуть его слова, хотя я их не совсем понимал. Мы оба в смущении молчали. Нелегким было это молчание, оно камнем легло между нами в ночи, и трудно было предсказать, кто заговорит первым.
В эту минуту вдали послышался грохот скорого поезда, а затем его гудок, глухой, точно доносившийся из‑под бетонного свода. Вокзал внезапно ожил. В темноте поднялись сотни до тех пор невидимых фигур, устремившихся к поезду. Вскочили и мы, но в начавшейся давке нас все больше оттесняли друг от друга. Я успел еще только крикнуть ему свой белградский адрес.
Дней через двадцать, будучи в Белграде, я получил толстый конверт, надписанный крупным почерком, который я не мог узнать. Это Макс писал мне из Триеста. Письмо было написано по‑немецки.
«Дорогой мой старинный друг, наш разговор при случайной встрече в Славонски‑Броде получился бессвязным и неприятным. Но будь у нас и больше времени, и более благоприятные обстоятельства, я не верю, что мы смогли бы понять друг друга и объясниться до конца. Неожиданность нашей встречи и быстрое расставание сделали это и вовсе невозможным. Я собираюсь уезжать из Триеста, где теперь живет моя мать. Еду в Париж, там есть кое‑какая родня со стороны матери, и если мне разрешат практиковать, останусь в Париже; если нет, я действительно еду в Южную Америку.
Не уверен, что несколько наспех набросанных мною бессвязных абзацев смогут тебе что‑то объяснить и оправдать в твоих глазах мой «побег» из Боснии. И все же я их посылаю, ибо меня не покидает ощущение, что я должен тебе его объяснить, и еще потому, что я храню память о нашей гимназической дружбе и не хочу, чтобы ты видел во мне обычную «немчуру» и вообще перекати‑поле, человека, с легким сердцем оставляющего страну, где он родился, в тот момент, когда она начинает свободную жизнь и когда все рабочие руки на счету.
Но к делу. Босния – прекрасная страна, интересная, совершенно необычная и природой своей, и людьми, ее населяющими. И подобно тому, как в недрах Боснии скрываются рудные богатства, здешние люди, несомненно, таят в себе массу нравственных достоинств, не так уж часто встречающихся в других областях Югославии. Но, видишь ли, при этом в ней есть то, что выходцы из Боснии, по крайней мере люди вроде тебя, должны понимать и никогда не забывать: Босния – страна ненависти и страха. Оставим в стороне страх, который всегда сопутствует ненависти, являясь, так сказать, ее естественным следствием, и поговорим о ненависти. Да, да, о ненависти. Ты невольно вздрогнул и сразу же возмутился, услышав от меня это слово той ночью на вокзале, и все вы не желаете этого ни слышать, ни видеть, ни понимать. А дело как раз заключается в том, чтобы это обнаружить, установить, проанализировать. В том‑то и беда, что никто этого не хочет и не может сделать. Ибо фатальная черта этой ненависти в том и состоит, что босниец не осознает живущей в нем разрушительной силы, шарахается в сторону, когда ему предлагают ее проанализировать, и проникается злобой по отношению к каждому, кто пытается этим заняться. И все же факт остается фактом: людей, готовых в приступе неосознанной ненависти убить или быть убитыми по любому поводу и под любым предлогом, в Боснии и Герцеговине больше, чем в других, куда более значительных по территории и населению странах, как славянских, так и неславянских.
Мне известно, что ненависть, так же как и гнев, несет определенную функцию в общественном развитии, ибо ненависть вливает силы, а гнев побуждает к действию. Немало есть застарелых, глубоко укоренившихся несправедливостей и злоупотреблений, которые могут быть уничтожены только гневом и ненавистью. Потоки гнева и ненависти, схлынув, очищают место свободе, строительству лучшей жизни. Современникам видятся в первую очередь гнев и ненависть, причиняющие им страдания, но зато потомки видят результаты сдвигов. Это я хорошо знаю. Но в Боснии я наблюдал совсем иное. Тамошнюю ненависть нельзя назвать неминуемой частью и преходящим моментом процесса общественного развития. Это – ненависть, выступающая самостоятельной силой, находящая цель в самой себе. Эта ненависть поднимает человека против человека и затем приводит к нищете и страданиям или укладывает в могилу обоих врагов: ненависть, словно раковая опухоль, поражает вокруг себя все, с тем чтобы под конец и самой погибнуть, ибо такого рода ненависть, подобно пламени, не имеет ни постоянной формы, ни собственной жизни; она лишь орудие инстинкта уничтожения и самоуничтожения и лишь как таковая существует, причем до тех пор, пока не исполнит свою задачу абсолютного уничтожения.
Да, Босния – страна ненависти. Вот что такое Босния. И вот странный контраст (по сути дела, ничего странного тут нет, и возможно, пристальный анализ позволил бы все это объяснить), точно так же можно сказать, что мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной стойкости характера, столько нежности и умения любить, где есть такая глубина переживаний, привязанностей и непоколебимой преданности, такая жажда справедливости! Но под всем этим где‑то в глубине скрываются вулканы ненависти, целые лавины накопившихся ее запасов, зреющих в ожидании своего часа. Соотношение между вашей любовью и вашей ненавистью точно такое же, как между вашими высокими горами и в тысячу раз превосходящими их невидимыми геологическими наслоениями, на которых они покоятся. Так и вы все осуждены жить, опираясь на толстые слои взрывчатого вещества, время от времени возгорающиеся от искр вашей любви, ваших пламенных, безудержных страстей. И наверное, самое большое ваше горе в том, что вы и не догадываетесь, сколько ненависти вросло в вашу любовь, в ваши привязанности, в традиции и религиозные верования. И также, как почва, по которой мы ступаем, оказывает под воздействием тепла и атмосферной влаги влияние на наши тела, определяя цвет нашей кожи и внешний облик, – точно так интенсивная, невидимая, подземная ненависть, которой пропитана вся жизнь боснийца, незаметно, окольными путями проникает во все его поступки, даже самые лучшие. Всюду в мире порок порождает ненависть, ибо порок растрачивает, не возмещая, и разрушает, не создавая, но в странах, подобных Боснии, даже достоинства часто говорят языком порока, действуют его руками. У вас аскеты на основе своего аскетизма приходят не к любви, а к ненависти, к сладострастию; трезвенники питают ненависть к пьяницам, а в тех, кто пьет, рождается убийственная ненависть ко всему миру. Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих или тех, кто верует иначе или любит по‑другому. И, к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви. (Нигде не встретишь столько озлобленных, мрачных лиц, как на богомолье, у святых мест, в монастырях.) Угнетающие и эксплуатирующие бедных вкладывают в эксплуатацию еще и ненависть, и это делает ее в сто раз тяжелее и безобразнее, а те, кто терпит несправедливость, мечтают о справедливости и о мести как о взрыве такой силы, который вместе с гнусным угнетателем разнес бы и угнетенных. Большинство из вас имеет обыкновение приберегать ненависть для того, что поближе. Ваши обожаемые святыни, как правило, находятся за тридевять земель, а предмет вашего отвращения и ненависти – рядом, в том же городе, за стеной вашего дворика. Ваша любовь не требует действия, в то время как в ненависти вы весьма легко переходите к делу. И землю свою родную вы любите жаркой любовью, но только тремя‑четырьмя различными способами, друг друга исключающими, находящимися в смертельной вражде и без конца сталкивающимися между собой.
В одном рассказе Мопассана дионисийское описание весны заканчивается словами, что в такие дни следовало бы расклеивать на углах объявления с таким текстом: «Французский гражданин, весна идет, берегись любви!» Быть может, в Боснии следовало бы предупреждать людей, чтобы они на каждом шагу, в каждой своей мысли и в любом, самом возвышенном чувстве остерегались ненависти, врожденной, бессознательной, эндемической ненависти. Ибо этой отсталой и бедной стране, в которой, теснясь, живут четыре разных религии, нужно в четыре раза больше любви, взаимопонимания, терпимости, чем другим. В Боснии же, наоборот, непонимание, время от времени переходящее в открытую вражду, является чертой почти всех жителей. Пропасть между разными религиями столь глубока, что преодолеть ее удается порой лишь ненависти. Я знаю, мне на это ответят, и не без основания, что в этом отношении заметен все же определенный прогресс, что идеи девятнадцатого века и здесь сделали свое дело, а теперь, после освобождения и объединения страны, дело пойдет намного лучше и быстрее. Боюсь, что это не совсем так. (За последние несколько месяцев я достаточно наблюдал в Сараеве отношения людей разных религий и народностей!) Теперь на каждом шагу будут говорить и писать по любому поводу: «Брат есть брат, какой бы он ни был веры», «Важно не кто каким крестом крестится, а чья кровь стучит в его груди», «Уважай чужое, а своим гордись», «Национальное единство не знает ни религиозных, ни племенных различий». Но ведь в боснийских верхах издавна хватало лживой вежливости, привычки обманывать себя и других звучными словами и пышными церемониями. Это может прикрыть вражду, но не устраняет ее и не препятствует ее росту. Я опасаюсь, что под прикрытием современных лозунгов в этих кругах дремлют прежние инстинкты и каиновы замыслы, и так будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся полностью основы материальной и духовной жизни в Боснии. А когда наступит это время, у кого хватит сил на это? Когда‑нибудь и это свершится, я верю, но то, что я увидел в Боснии, не говорит о том, что она уже сейчас идет по упомянутому пути. Напротив.
Я много размышлял об этом, особенно в последние месяцы, пытаясь побороть в себе решение навсегда оставить Боснию. Естественно, что у человека, обуреваемого подобными мыслями, плохой сон. Я лежал, не в силах сомкнуть глаз, у открытого окна, в комнате, в которой я родился, снаружи шумела река, ветер шелестел еще обильной листвой.
Тот, кто в Сараеве проводит ночи без сна, может услышать все ночные голоса. Тяжело, уверенно бьют часы на башне католического собора: два часа пополуночи. Проходит немногим более одной минуты (я считал, ровно семьдесят пять секунд), и тогда бьют немного тоньше, но пронзительно часы на православной церкви, отмечая свои два часа пополуночи. Вслед за ними глухо, словно издалека, отбивают часы на башне мечети, причем отбивают одиннадцать часов – призрачные турецкие одиннадцать часов, согласно странному счету времени чужой, далекой страны. У евреев нет своих часов с боем, и одному только богу немилостивому известно, который час у них и по какому счету времени – сефардов или ашкенази. Даже ночью, когда все спит, когда текут глухие ночные часы, не дремлет рознь, разделяя сонных людей, которые, проснувшись, радуются и печалятся, постятся и говеют по четырем враждующим календарям и воссылают к небу молитвы на четырех разных языках. И эта рознь то явно и открыто, то незаметно и исподтишка сливается и отождествляется с ненавистью.
Эту специфическую боснийскую ненависть следовало бы изучать и искоренять, как опасную и глубоко укоренившуюся болезнь. И я верю, что, будь ненависть признанной и классифицированной болезнью, как, например, проказа, иностранные специалисты приезжали бы изучать ненависть именно в Боснию.
Я и сам думал было заняться этим и, анализируя ненависть и вынося ее на всеобщее обозрение, способствовать ее искоренению. Быть может, это даже мой долг, поскольку я, хоть и иностранец по происхождению, появился на свет в этой стране. Но после первых попыток и долгих размышлений я убедился, что у меня нет для этого ни способностей, ни сил. От меня, как и от всех прочих, требовали стать на определенную сторону, ненавидеть и быть ненавидимым. Я не захотел этого и не сумел. Быть может, если уж такова моя судьба, я согласился бы еще пасть жертвой ненависти, но жить окруженным ненавистью, да еще и участвовать в ней – это свыше моих сил. В стране же, подобной сегодняшней Боснии, тот, кто не умеет или, еще хуже, тот, кто не хочет ненавидеть, чужак и выродок, а чаще – мученик. Это относится и к вам, коренным боснийцам, а что уж говорить о людях иного происхождения!
Вот так, тихой осенней ночью, слушая удивительную перекличку разноголосых сараевских часовых башен, я однажды пришел к заключению, что не могу остаться на своей второй родине, в Боснии, и не должен оставаться. Я не настолько наивен, чтобы по всему миру искать город, где нет ненависти. Мне просто нужно место, где я мог бы жить и работать. Здесь это невозможно.
Конечно, ты с насмешкой или даже с презрением повторишь свои слова о моем бегстве из Боснии. Вряд ли это письмо объяснит тебе мой поступок или оправдает его в твоих глазах, но, видимо, в жизни бывают обстоятельства, когда надо обратиться к древнему латинскому изречению: «Non est salus nisi in fuga».[3] Прошу тебя, поверь мне только в одном: я бегу не от своего долга перед людьми, а для того, чтобы иметь возможность полностью и без помех его выполнить.
Желаю тебе, как и всей нашей Боснии, счастья в новой национальной и государственной жизни!
Твой М.Л.»
Прошло десять лет. Я редко вспоминал друга своего детства и, наверное, забыл бы его совсем, если бы мысли, высказанные в его письме, время от времени не напоминали мне о нем. Кажется, в 1930 году я случайно узнал, что доктор Макс Левенфельд остался в Париже, что он практикует в предместье Нёйи и что в югославской колонии и среди югославских рабочих‑иммигрантов он известен как «наш доктор», который бесплатно лечит рабочих и студентов и, когда это необходимо, сам покупает для них лекарства.
Прошло еще семь или восемь лет, и однажды, опять случайно, я узнал о дальнейшей судьбе моего товарища. Когда началась гражданская война в Испании, он все бросил и пошел добровольцем в республиканскую армию. Он организовывал перевязочные пункты и госпитали и прославился своими знаниями и самоотверженной работой. В начале 1938 года он находился в маленьком арагонском городке, название которого никто у нас не умел выговорить правильно. Среди бела дня на его госпиталь был совершен воздушный налет, и он погиб, а вместе с ним почти все его раненые.
Так окончил свои дни человек, бежавший от ненависти.
[1] «Helios Klassiker‑Ausgaben» – популярное издание классиков мировой литературы, выпускавшееся в 1898–1901 гг. в Лейпциге издательством «Минерва», вышли 274 книги.
[2] Перевод А. Кочеткова.
[3] Только в бегстве – спасение (лат.)
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »