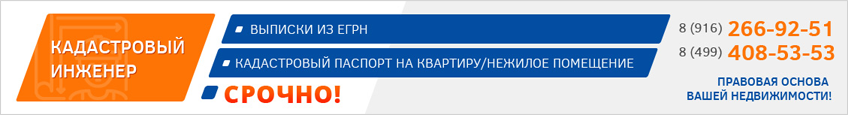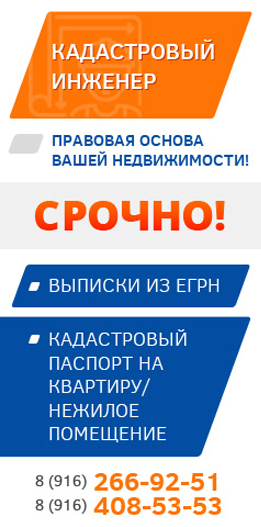29 октября 2010
Пытка. Автор: Андрич Иво
Литература / Литература славян и народов СССР / Босния и Герцеговина / Альбом Андрич Иво
Разместил: Александр И
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
Перевод: Е. Рябова
Иво Андрич
Пытка
Все ополчились против Аницы. Не только соседи, знакомые и друзья, но и, за малым исключением, вся ее родня. Отец в тот сентябрьский вечер, когда она убежала от мужа, не принял ее под свой кров, а позже велел передать, что в его доме нет места для беглых привередниц, которые «с жиру бесятся». (Присловьями у нас убивают живых людей самым скорым и самым несправедливым образом.)
И в самом деле, никто не мог понять, почему Аница, жена Андрии Зерековича, ни с того ни с сего бросила дом и мужа. Для такого поступка не было видимой причины или разумного оправдания ни в ее семейной жизни, мирной и образцовой, ни в одиноком и скудном существовании, на которое она себя обрекла, покинув мужа. Муж держался со спокойным достоинством и делал все, что мог, дабы вернуть ее. И лишь увидев, что жена и в самом деле не вернется, сдался и потребовал развода.
Решение духовного суда лишь подтвердило общее мнение. Брак Андрии Зерековича и его супруги Аницы, урожденной Маркович, расторгнут с возложением вины на упомянутую Аницу.
Теперь она служит продавщицей в большом магазине. Она поблекла и похудела. Живет жизнью одиноких, отвергнутых женщин. Квартирует в каморке на шестом этаже, обедает всухомятку за своим прилавком, а по воскресным дням остается дома, чтобы постирать и зачинить что нужно.
Если рассказать, каков был этот брак, сразу станет понятно, почему общественное мнение оказалось против жены.
Муж, которому давно уже минуло сорок, был владельцем щеточной фабрики. Слово «фабрика», пожалуй, в данном случае звучит слишком громко. В сущности, это была отлично оборудованная мастерская с хорошо налаженным производством, с двенадцатью рабочими и с весьма разветвленными и прочными деловыми связями. Кроме того, газда[1] Андрия занимался скупкой разного рода шерсти и щетины. Его кредит и репутация с давних пор прочно держались в деловых кругах. Сын крестьянина, он сам, своим трудом, бережливостью и скромностью достиг всего, чем обладал: собственного предприятия и места в обществе. Хотя он никогда не мог бы назваться ни видным, ни красивым собою, ему нельзя было отказать в достоинстве и умении держать себя, как положено людям его состояния. Он был любезен и сладкоречив, аккуратен и щеголеват в одежде. Будучи молодым подмастерьем, он провел два‑три года где‑то в Австрии и не только приобрел там многие познания, но и усвоил тамошнее тонкое обхождение с клиентами.
Аница была девушка бедная. Отец ее, маленький чиновник, служил в каком‑то страховом обществе в должности так называемого инкассатора, что означает не обычного служащего, а человека, пользующегося доверием и обладающего известной сноровкой. В доме были еще три сестры и брат. Аница была старшей. Молчаливая, рослая и крупная, с белой кожей, густыми темными волосами и синими спокойными глазами, которые не выдают ничего из того, о чем молчат крупные, но правильно очерченные и сочные губы. Одна из тех статных и сильных девушек, которые вечно боятся расправить и показать свою стать, стыдятся своих форм, опускают глаза перед любым взглядом и, когда бывают на людях, стискивают колени, судорожно заслоняют руками грудь – все из какой‑то болезненной потребности выглядеть миниатюрнее и слабее, чем они есть на самом деле, раз уж невозможно остаться совсем незаметной и неслышной.
Когда мать умерла, Аница стала вести хозяйство, поднимала младших сестер, учила брата. Она была одной из тех редких женщин, которые умеют быть полезными молча, которые не нуждаются в признании как стимуле, не надевают на себя после каждого усилия маску мученицы и всегда выглядят довольными.
В наших мещанских семьях, где остается вдовец с многочисленными детьми и малыми доходами, нередко случается, что старшая сестра, приняв роль матери, полностью приносит себя в жертву, становясь добрым гением дома и «замуровывая» себя в фундамент семьи. Такая девушка отказывается от личной жизни, стоит вне жизни вообще, сохраняя удивительную неопытность и неискушенность во всем, что выходит за пределы дома. И в то время как младшие сестры или братья вокруг нее и при ее помощи живут и развиваются и, в зависимости от своих наклонностей, участвуют во всем, что приносит жизнь этого поколения – в добром и злом, в прекрасном и безобразном, она остается в стороне, с первых шагов своих вне русла жизни. Под давлением необходимости и в силу инерции такие девушки превращаются в безликих, отставших от времени существ, не умеющих постоять за себя, становятся виртуозами бескорыстия, постоянно готовыми на любую жертву и вечно терзаемыми ощущением, что недостаточно дали и сделали. Задушив в себе с самого начала естественное женское стремление к личному счастью, они жертвуют собой для каждого, и каждый может эксплуатировать их, не зная в этом никаких границ.
По своему складу, наверно, и Аница, повыдав замуж младших сестер, до конца дней несла бы обязанности хозяйки в доме своего отца, человека угрюмого и раздражительного. Однако ее трудолюбие и ее сильная, затаенная красота привлекли внимание газды Андрии. Это было то самое, чего он искал, ради чего дожил до зрелых лет не женившись и что теперь мог себе позволить: красивая, статная и благонравная девушка. К тому же – бедная. Привести в дом бедную и работящую девушку значит изо дня в день получать дополнительное удовольствие от своего тяжко приобретенного благосостояния и изо дня в день его понемногу увеличивать. Ибо стяжание есть, в сущности, бегство от бедности; но не будь на свете бедняков, чем бы измерялось достоинство и успех удачливых приобретателей? Что же касается красоты, этой могучей и долговечной красоты, которую газда Андрия считал вторым богатством и которая для него много, очень много значила, то красота рождается и развивается там, куда занесет ее случай – и среди бедняков, и среди богатых. Разница лишь в том, что богатство притягивает к себе и красоту бедняков, как холодное помещение притягивает теплый воздух. Таков один из непререкаемых законов наших общественных отношений, а на законы эти у газды Андрии всегда было особенно тонкое чутье и понимание, и, отлично в них разбираясь, он опирался на них как на некую живую силу, подымаясь и по общественной лестнице, и в собственных глазах.
Это была одна из тех свадеб, о которых говорят не только среди соседей и знакомых, но и среди людей посторонних, один из редких примеров того, как скромная и неприметная добродетель находит себе признание и награду.
Уйдя из своего бедного дома, в котором нужда, а еще больше отец с его желчным нравом, непоседливые сестры и болезненный брат создавали атмосферу вечной напряженности и пустячных, но постоянных недоразумений, Аница вдруг оказалась в холостяцком, но просторном, тихом и упорядоченном доме мужа, дарованного ей нежданным счастливым случаем.
Для того, кто умеет читать по вещам, дом газды Андрии Зерековича с его распорядком, обстановкой и всем укладом был немой историей возвышения его владельца от бедного, работящего и непьющего приказчика до видного предпринимателя. Как это бывает со многими часто употребляемыми словами, слово «предприниматель» по сей день не имеет ни точно определенного значения, ни вполне ясного смысла, однако оно распространилось в нашем обществе примерно в то трудное для газды Андрии время, когда он служил в подмастерьях; он сделал это понятие целью всех своих мук и усилий и теперь, когда цель эта была достигнута, произносил вожделенное слово по сто раз на день с каким‑то мстительным наслаждением, сокровенное значение и истинный смысл которого были известны только ему одному.
Это был старинный, но красивый двухэтажный дом. Согласно доброму старому обычаю, он стоял поблизости от мастерской, но не примыкал к ней. Здесь газда Андрия еще в молодости поселился у одной доброй вдовы, занимавшей весь первый этаж. Когда вдова умерла, он находился в самом начале нелегкой карьеры мастера, но тем не менее купил у наследников то, что осталось после вдовы, и таким образом сохранил за собой все три комнаты первого этажа. Позже, когда дело пошло на лад и газда Андрия повел финансовые операции с таким искусством, которого никто не мог от него ожидать и в котором его скромность и смирение играли главную роль, он воспользовался представившимся случаем и купил за наличные весь дом у его владельца, чудака и последнего отпрыска родовитой семьи, жившего на втором этаже. Умеренный и рассудительный газда Андрия сохранил за бывшим владельцем его этаж. Все оставалось по‑прежнему, только что хозяином теперь был он, а прежний хозяин превратился в съемщика, но газда Андрия старался, чтобы это изменение в отношениях чувствовалось как можно меньше. Так он дождался смерти старого чудака. Тогда он занял и второй этаж, купив находившуюся там мебель, старую и громоздкую, но роскошную. Таким образом разные обиталища, от каморки холостого жильца до богатых апартаментов выморочного рода, оказались в одних руках, но так никогда и не слились воедино.
В этот дом газда Андрия и привел свою молодую красивую жену. Здесь они прожили два с половиной года. Брак их ничем не отличался от остальных, разве что своей тихой гармонией и нерушимым согласием. Правда, детей у них не было, но и это не могло поколебать их безупречного союза. Все шло в соответствии с божьими заповедями и людскими представлениями и ожиданиями. Он был хорошо принят и ценим в обществе, состоял членом совета Ремесленной палаты и благотворительного общества «Торговой молодежи». Она занималась своим большим домом в полном согласии с мужем, знавшим все, что требуется для хозяйства, и навещала отца и сестер, из которых две вышли замуж следом за нею.
В доме мужа Аница сразу же избавилась от своей застенчивости и похорошела. Ее красота начала расцветать по‑настоящему. Судорога, сковывавшая во время девичества ее роскошное тело, отпустила. Все существо ее освободилось. Взгляд стал мягче, густые черные волосы приобрели синеватый отлив. Молчаливая, скромная, всегда ровная, она спокойно и свободно двигалась по дому, который она преобразила самим своим присутствием не меньше, чем своими постоянными заботами и старанием. И каждый раз, когда газда Андрия по своей привычке принимался для собственного удовольствия подсчитывать в уме, чего стоит эта женщина, как новое приобретение, добавленное к тому, что он собой представляет и чем владеет, – мысль его останавливалась и расчеты путались. Он приходил к выводу, что хорошая жена поистине не имеет цены. Первый раз в жизни он оказался не в состоянии что‑то высчитать точно и досконально. И подолгу сидел над этими своими незавершенными подсчетами, полный блаженства и боязни, как человек, который и сам не знает, чем обладает, и которого его собственное богатство в любой миг может приятно изумить.
Женитьба придавала новую прелесть его обычным удовольствиям, связанным с делом, выгодными операциями, положением в обществе и приобретательством, а кроме того, удовлетворяла и те желания, о которых он не смел и думать, подозревая, что они для него вообще недоступны. Короче говоря, он ощущал чувство полного и совершенного счастья, какое дает людям его склада определенный общественный порядок, которому они сознательно и преданно, всеми силами служат. Пред его духовным взором раскрывалась перспектива нечаянного и негаданного рая, вполне удавшегося буржуазного существования, в котором каким‑то мудрым и таинственным образом уживается желаемое с достигнутым и дозволенное с недозволенным.
Ибо трудно сказать, а тем более понять, что значила для газды Андрии эта статная женщина, которую он в один прекрасный день ввел в свой дом, просто, без какого‑нибудь труда и риска, и которая, в сущности, увенчала собою все его долголетние труды, унижения и жертвы.
Теперь он мог в праздник пройтись с белолицей, молчаливой, хорошо одетой собственной женой, повести ее в театр, в кино или на чью‑нибудь славу. Если прежде, упоминая о женщинах, он испытывал стыд и замешательство, то теперь он мог свободно, открыто и горделиво говорить о жене перед всеми («Иду это я как‑то с женой…», «Говорю жене: отстань ты, жена, от меня, ради бога…»). Те, кто слушал, как он произносит эти невинные и обыденные фразы, разумеется, и представить себе не могли, какое наслаждение таилось в них и как это слово «жена» стало в его речи пришедшейся к месту подпоркой, которой ему так недоставало.
А сам себе он мог сказать намного больше того, что можно сказать людям. Он мог в темноте положить обе руки на упругое теплое тело спящей жены, положить их куда придется, туда, куда они лягут случайно, и сказать самому себе: «Все это мое, от волос на голове до кончиков ног, мое, и ничье больше!» От этого ощущения счастья масштабы собственной личности вырастают до бесконечности. Сладко бодрствовать из‑за этого чувства и сладко засыпать убаюканным им.
Ибо нужно знать, что для этого человека в течение долгих лет работы, ему одному известных мук и жертв, значила жена или, лучше сказать, мысль о жене. Газда Андрия был, как мы уже сказали, образцом добросовестного труженика, работящим и исполнительным, покуда он находился в подчинении, строгим и, как сам он любил говорить, справедливым, когда стал хозяином. Все в нем было совершенно, за исключением лишь внешнего облика. Он и в колыбели не отличался красотою, а дальнейшая жизнь сформировала его довольно причудливым образом. В сущности, он представлял собою законченный тип безобразного человека. На тонких и коротких ногах – массивное туловище с длинными руками, а на такой же тонкой и невидимой шее – большая голова, откинутая назад и втянутая в плечи. Вам попадались такие люди – горбатыми их не назовешь, но в соотношении головы, хребта и туловища есть какая‑то неправильность, так что человек своим видом и осанкой смахивает на горбуна. С возрастом он пополнел и округлился, но ноги и лицо так и остались худыми. На лице газды Андрии выделялись густые подстриженные усы, которые лишь отчасти скрывали большой рот с испорченными зубами нижней челюсти и чересчур белыми и правильными, но искусственными – в верхней. Глаза у него были желтые, мутные, с деловым прищуром, и стоило ему чуть забыться, как они тотчас приобретали усталое и бесконечно тоскливое, какое‑то некрасиво тоскливое выражение. Плешивое темя едва прикрывали пряди, начесанные с обеих сторон. Ступни и кисти рук были несоразмерно велики, искривлены и шишковаты от долгой работы и стояния за прилавком. Однако все это сглаживалось его манерой держать себя с людьми как в деловых отношениях, так и при обычных встречах. Он и в самом деле был человеком «с подходом», то есть таким, который перед всеми проявляет смирение особого рода – лестное для собеседника, но его самого нимало не унижающее. Беднякам и людям, попавшим в беду, он умел дать совет, а с людьми богатыми и влиятельными поговорить о том, что их в данную минуту больше всего занимает. Уже в течение нескольких лет он держал в своих руках все военные поставки, железные дороги и многие государственные учреждения; на торгах он регулярно выходил победителем, и при этом никто из конкурентов ни в чем не мог его упрекнуть.
В этом и заключался «подход» газды Андрии Зерековича, маскировавший все его действительно существенные физические недостатки. Благодаря ему мысль об уродстве газды Андрии у большинства людей так и не успевала дойти до сознания. По натуре он был ловок, учтив, услужлив и в своей деятельности лишь пожинал плоды этих своих прирожденных талантов.
Одним из драгоценных плодов была и женщина, которую судьба послала ему во исполнение его последнего и самого сокровенного желания.
Однако в таком полном осуществлении желания кроются большие опасности, и самая большая из них – в том новом желании, которое возникает на месте осуществленного. Кто знает, каково оно и куда оно может нас завести? И кто знает, от чего охраняло нас то, первое, пока оно было с нами и мучило нас, живое и неосуществленное?
В этой новой жизни, которая означала для него исполнение всех желаний и верх совершенства, газда Андрия впервые с тех пор, как себя помнил, начал заниматься собой, оценивать себя, исследовать и сравнивать с другими. Удобства, предоставляемые богатством, браком и домашней жизнью, дают время и возможности для этого. Появляются долгие и приятные часы – вечерние, полуденные и утренние, когда человек раскрывается и распахивается так, как и вообразить себе не мог. Это уже не те безгласные мысли и молчаливые мечты в глухой тишине холостяцкой комнаты, в неизменном присутствии своей, всегда одной и той же, давно известной и наскучившей личности. Нет, теперь это простор и тепло, присутствие существа, которое молчит или соглашается и перед которым не надо сдерживаться и стесняться. Первый раз в жизни он может говорить свободно, без расчета и оглядки, мечтать вслух, раскладывать и разглядывать все то, что он извлекает из себя. И это увлекательно и приятно, словно говоришь перед всем человечеством, и в то же время безопасно и доверительно, точно открываешь свою душу немой сырой земле. Только при таком слушателе сам себя видишь, видишь, кто ты и что, каков ты, что умеешь и знаешь, можешь и смеешь.
Сначала это были короткие разговоры по поводу обычных событий дома и в городе.
Случайно, к слову, Аница заметит, что была сегодня в городе и хотела купить какую‑нибудь вещь, но спохватилась, что взяла мало денег.
– Э, дурочка моя, – улыбаясь, мягко корит ее газда Андрия. – Надо было войти в магазин, купить, что нужно, и сказать: «Я госпожа Зерекович, жена Андрии Зерековича, пришлите мне это, пожалуйста, на дом». Да, да, «пришлите на дом» – и добавить: «Мой муж заплатит».
– Мне неловко, – скажет Аница.
– Что тут неловкого? Ты не знаешь, какой у тебя муж! Знаешь ли ты, что не найдется и двух торговцев, которые бы пользовались таким кредитом и доверием, как я? И что банки дают под мою подпись сотни тысяч динаров? А ты вернулась домой, потому что двухсот динаров тебе не хватило! В другой раз так не делай. Нет такой лавки, которая бы с удовольствием не послала товар на мое имя, сколько бы он ни стоил.
Газда Андрия встает и, расставив руки, с жестами и минами, которых днем, в магазине, на людях, никто у него не видит, объясняет спокойно слушающей жене, что являет собой сеть его торговых связей и кредитов, как объясняют новую систему планет.
Или случится, что газде Андрии принесут акт государственного представителя при налоговом управлении, которым тот опротестовывает решение налоговой комиссии и доказывает, что она занизила сумму налога с фирмы «А. Зерекович». Газда Андрия позже будет в своем ответе опровергать все аргументы и доказывать, что его магазин не имеет такого товарооборота и такого дохода, который предполагает налоговое управление, но сейчас он с довольной усмешкой показывает жене текст жалобы:
– Видишь, что о твоем муже пишут? «Сумма налога явно занижена: известно, что данная фирма находится на хорошем счету и ее годовой оборот, а соответственно и доход, намного превышают суммы, из которых исходила в своей оценке налоговая комиссия».
Он подносит к лицу жены бумагу с официальной печатью и штампом.
– Видишь – «на хорошем счету», и… «намного превышают» – вот как обо мне говорят в налоговом управлении. И в Национальном банке так, и в министерствах тоже. А уж разные частные банки столько раз меня просили высказать свое мнение и дать сведения о лицах и фирмах, обращающихся за кредитом! И если я говорю «дайте» – они дают, а если «нет» – не дают. Ну, а это уже ответственность. Понимаешь? Тут уже надо подумать. Понимаешь?
Жена соглашается со всем легким кивком головы, молчит и смотрит ему прямо в лицо – не в глаза, а в лицо – холодными синими глазами, которых он и не видит, продолжая рассказывать о своих деловых связях и успехах, о своем невидимом, но ощутимом влиянии в торговом мире, о случаях из своей жизни, своих намерениях и смелых планах. При этом он совершенно забывает о ней и не хочет и не ждет от нее ничего другого, кроме этого немого и пассивного участия, ее живого присутствия. А ее неисчерпаемое молчание очаровывает его и манит, как спокойная морская гладь манит раззадорившегося пловца; оно заставляет его выискивать все новые и новые необычные сюжеты, которые бы изумили ее или потрясли.
Со временем эти разговоры становятся для нее все неприятнее и тяжелее. Она и самой себе не хочет признаться, как они ее мучают и утомляют. Ее смущает новая манера мужниных рассказов, полная неумеренности, ожесточения, иронии, вздорности и больного воображения, столь резко отличающаяся от его разговоров и поведения в дневные часы, в магазине и на людях. Это его вечное «понимаешь?» раздражает ее, как слишком яркий свет. Она старается смотреть прямо на мужа, не мигая, но это дается ей с трудом. А повествования газды Андрии разрастались и превращались во все более смелые монологи, в которых он все пуще давал волю своему воображению и языку и в которых самому ему неведомая до тех пор особа вырастала и переливалась всеми красками во все более необыкновенных положениях перед глазами удивленной и уже немного напуганной, но неизменно тихой жены.
Это происходило каждый вечер после ужина. Аница берет вязание, усаживается поближе к свету, с тоской предчувствуя неизбежные разглагольствования мужа. Газда Андрия закуривает сигарету, разваливается в кресле и разворачивает утреннюю газету. (Он курит только после еды и притом вот так – расстегнув ворот, без галстука, в желтоватой верблюжьей куртке, доходящей ему почти до колен.) Кое‑что он читает про себя, кое‑что жене, вслух. В связи с прочитанным он или обстоятельно излагает свое мнение, или пускается в воспоминания, в то время как жена только поглядывает на него поверх вязания и изредка роняет какое‑нибудь слово, которое пришпоривает его красноречие и уводит его мысль на такие пути, о которых он и сам до сих пор не имел понятия.
– «Указом его королевского величества, – читает газда Андрия, – градоначальником назначен г‑н H.H.». Ну вот, опять промах. Не буду говорить чей, но промах. Опять это один из тех мелких, голодных чиновников, которые гнут спину перед всем и каждым и упрашивают евреев не опротестовывать их векселя. Откуда ему быть таким, каким надо? Градоначальник столицы! Представляешь, что это такое?
Аница смотрит на него. Ее всегда смущают эти строгие, звучащие укором вопросы, и она не может привыкнуть к ним, хотя уже давно знает, что вместо ответа достаточно ее немого взгляда, полного смиренного незнания и сдержанного любопытства.
– Тут, брат ты мой, приходится высоких персон принимать, видных предпринимателей, разных иностранцев. Адля этого нужен подход. Надо быть безукоризненно одетым, не суетиться, быть обходительным, но и свое достоинство соблюдать. Это, мол, можно, извольте. А этого, весьма сожалею, нельзя! И конец делу! А с чиновниками? Тут‑то вот и нужна уверенная и крепкая рука. Эх, будь я у них начальником!
Газда Андрия поднимается с кресла.
– У меня бы не было ни опозданий, ни беспорядка, ни взяток, ни лодырничанья. Понимаешь? Все бы шло как часы, повторяю, как часы. Кому порядок не по нраву – вон! Несмотря ни на протекцию, ни на что! Без всякой пощады!
Он с наслаждением повторяет последние слова. Поправляет упавшую набок прядь волос, прикрывающую лысину, сызнова закуривает потухшую сигарету, усаживается в кресло и продолжает мягким и значительным тоном:
– Или надо идти на доклад к самому королю. А что может этакий чиновничишка сказать королю о положении в городе, о настроении народа? Только и может, что кланяться, щелкать каблуками да поддакивать всему, что от него потребуют. А тут как раз и нужен человек, который бы мог в определенный момент, понимаешь, в определенный момент занять твердую позицию и сказать: «Ваше величество, это невозможно». – «Что, как так невозможно?» – «Невозможно, ваше величество, потому‑то и потому‑то, оттого‑то и оттого‑то».
Газда Андрия снова встает, меняет голос и движения, представляя то короля, то городского голову. Произнося реплику короля, он гасит сигарету. Это означает конец сцены. Чтение газеты продолжается. Ритмично позвякивают спицы в руках жены. И так они сидят, пока не придет время ложиться.
На следующий вечер газда Андрия снова отбрасывает газету и спускает очки на кончик носа.
– Вот, пожалуйста, смотри, что они тут пишут! «Любовные похождения молодого торговца перед судом». «Сын богатого торговца в сетях расчетливой красавицы». Вот какие недотепы бывают, ни бельмеса не смыслят. Бог ты мой, до чего я в этих делах держался разумно и был неумолим и к себе, и к другим! А ведь не то чтобы случая не было. Ого‑го!
Щеточник чмокает губами и прищелкивает пальцами, а жена внутренне содрогается и опускает глаза, чувствуя, что сейчас услышит что‑то гадкое и жалкое. Ибо ничто не было ей так страшно и отвратительно, как разговоры о физической любви и его намеки и шутки по этому поводу. Однако муж с довольным видом молчал и лишь снисходительно усмехался.
– И сам не знаю, с чего это. Ни франтом, ни повесой я отроду не был. И столько есть мужчин покрасивее меня, – говорит щеточник, вопросительно вглядываясь в глаза жены, – но женщины все чего‑то липли ко мне. И притом представить себе невозможно, какие женщины, из какого круга! Но меня с толку не собьешь. Я всегда знал, чего хочу, когда и что могу себе позволить и докуда идти. И всегда я это решал, а не они. Исключений ни для кого не делал, хотя бы она была неземной красоты. Понимаешь?
И тут начинаются какие‑то жалкие, двусмысленные и туманные истории его любовных похождений, относящиеся ко времени его жизни на Дунае, о которых он рассказывает без стеснения и в которых всегда одерживает триумф как великий сердцеед, но при этом человек благоразумный и находчивый, удерживающий в полном повиновении как собственные страсти, так и чужие желания. За историями о хозяйках, каких‑то немках, и их деверях, и шкиперских женах, и ревнивых трактирщиках следует рассказ о графине из Будапешта, настоящей графине, которая увидела его за работой, заприметила и несчетное число раз подсылала к нему служанку, но он благополучно выпутался из сетей этой пожилой похотливой женщины.
– Никогда я не был настолько глуп, чтобы растрачивать попусту свою силу и свою молодость, а женщин у меня тогда было по три на каждый палец. – И он показывает свои большие узловатые пальцы женщине, сидящей рядом. Красивая, цветущая, на двадцать лет моложе и на две головы выше его, она смотрит на них с холодным недоумением и страхом. И так это продолжается до благословенного часа отхода ко сну.
Тогда молодая женщина обретает наконец свободу и может, не засыпая и наслаждаясь одиночеством, отдыхать в чистой и удобной постели от всего, что должна была выслушать в этот вечер. Может, наконец, думать о своем и так, как ей хочется. Газда Андрия еще долго возится, готовясь ко сну. Вынимает верхнюю челюсть, чистит ее особой щеточкой и опускает в стакан с водой. Полощет горло специальной жидкостью, вставляет в нос тампоны с мазью и перуанским бальзамом, закладывает левое ухо ватой (только левое, так как на правом он спит). Он постоянно (кроме летних месяцев) надевает на ночь специальное «егеровское» белье, а поверх него ночную рубашку; рубашка, хотя она и самого маленького из существующих мужских размеров, все же доходит маленькому человеку до пят. Свое лысое темя щеточник прикрывает белым шерстяным колпаком.
Проделав все это, он ложится в свою кровать, взглядывает еще раз на жену, которая в этот момент всегда закрывает глаза, притворяясь спящей, осеняет себя крестным знамением, гасит лампу и, повернувшись к жене спиной, засыпает моментально, как животное.
Тогда Аница открывает глаза и облегченно вздыхает. Начинается ее жизнь, неспокойные, мучительные часы бессонницы.
Чем дальше тянулось ее замужество, тем большее значение приобретали для нее эти часы, проведенные в постели до сна или после пробуждения.
В первые месяцы брака газда Андрия перебирался в женину постель сначала ежедневно, затем два раза в неделю, потом один раз. Но скоро и это кончилось. После разговоров и распоряжений, касавшихся хозяйства и разных мелких общественных обязанностей, после долгих утомительных рассказов о себе газда Андрия ложился в свою кровать, довольный самим собою и всем окружающим миром. Таким же он просыпался рано поутру и готовился к дневной жизни и делам. (Он уже давно не чувствует, что рядом спит или бодрствует молодая женщина, не задается мыслью о том, чего она хочет, что думает и чувствует, и вообще воспринимает ее только как домочадца и постоянного собеседника.)
В эти ночные часы сон не приходит к жене. Она не хочет, чтоб муж ложился в ее постель. Ни в коем случае. Одна мысль о том, что он спит, делает ее счастливой. Но сама она не может ни заснуть, ни лежать спокойно. Ей кажется, что постель под нею дышит и от подушек веет жаром. Она твердит себе, что надо только немножко потерпеть и на минуту успокоиться, и окажется, что ничего этого нет. Ложится на спину, закрывает глаза и дышит глубоко и мерно. Но и это не помогает. Она поднимается, тихонько идет в ванную и смачивает холодной водой грудь и шею. Это обычно помогает и приносит сон. А пробуждение так же странно и по‑своему тягостно.
Будит ее – обычно на рассвете – какой‑то трепет в мышцах ног и новая, непривычная, щемящая боль в грудях, которые словно затекли. Но вместе с Аницей всегда в тот же момент пробуждалась и какая‑то надежда, совершенно неопределенная, но бесконечно богатая и огромная до беспредельности.
Нелегки были эти ночные часы, когда она лежала без сна, часто сама не понимая толком, оттого ли это, что она не может заснуть, или оттого, что хочет бодрствовать. Но они были ей дороги, как и минуты пробуждения, потому что принадлежали только ей – единственное, что полностью и исключительно принадлежало ей в ее теперешней жизни.
Однако в последнее время шеточник начал урывать у нее и эти часы. Его страсть разглагольствовать и актерствовать перед женой росла все больше, и времени после ужина ему уже не хватало. Все чаще случалось, что газда Андрия, воодушевленный и возбужденный собственным рассказом, продолжал говорить и возле жениной постели.
Начинается это, как всегда, с того, что он усаживается в свое низкое кресло и принимается читать вслух какую‑нибудь статью о предлагаемых кем‑то неотложных и важных реформах в народном хозяйстве, государственном управлении, школе или армии. А затем объясняет жене с красноречивой иронией, что все эти люди – или продажные писаки, или наивные профессора, мнящие, будто они преобразуют общественную жизнь своими теориями и статьями.
– Мужской руки тут не хватает, дорогая моя. Нет мужчины, чтобы вскрыть это хирургическим ножом, без пощады!
Без пощады, понимаешь?
Щеточник выкрикивает эти слова, точно жена утверждает обратное, и показывает своей длинной рукой, как это делается.
Жена следит за его жестом, а затем снова останавливает неподвижный взгляд на его лице.
– Понимаешь, это то же самое, что у меня в мастерской, только в большем масштабе. Продуманность, решительность, выдержка! В этом все. Если бы меня, не дай бог, призвал король и сказал: «Господин Зерекович, дело в том‑то и том‑то! Вы видите, каково положение и до чего мы дошли. А я слышал о вас как о предпринимателе и труженике, который начал с малого, с ничего, а теперь слава богу… Словом, я позвал вас, чтобы доверить вам нашу экономику, чтобы вы ее реорганизовали, спасли все, пока еще есть возможность, и так далее и так далее», – я бы поклонился и сказал: «Пусть ваше величество извинит меня за вольность и чистосердечие, но я считаю, что не послужил бы ни вашему величеству, ни интересам государства, если бы не сказал вам правду: полумеры тут не помогут. Нужно в корне все изменить. Нож хирурга тут требуется, и только получив от вас неограниченные полномочия, я могу взяться за порученное мне дело. Ибо нужно то‑то, то‑то и то‑то».
Газда Андрия взмахивает рукой, жена следит за его движениями, каждое из которых означает некую крупную реформу. Ибо он уже принял доверенную ему миссию реформатора народного хозяйства.
– Я бы ни с кем не посчитался, понимаешь? Принял бы и выслушал каждого, но ни жалеть, ни церемониться бы не стал. Не признаю я никаких «смягчающих обстоятельств». Если кто нерадив, неисполнителен, ненадежен – голова долой, без пощады. Кто‑нибудь приходит: «О, господин министр, смилуйтесь. Этот человек такой‑то и такой‑то, жена, дети малые!» А я холоден, как скала. Неумолим. И ты бы только посмотрела, как дело сразу пошло бы по‑другому. Долго бы помнили и рассказывали, как Андрия Зерекович взял кормило государства в свои руки.
Перед глазами жены две узловатые и волосатые руки держат и энергично поворачивают это воображаемое кормило.
Наконец кончается и это словоизвержение. Щеточник зевает и потягивается. Глаза глядят сонно и слезятся. Но теперь все чаще случается, что и постель не приносит желанной тишины. Закончив свои долгие и сложные процедуры, щеточник не ложится, а присаживается на край жениной кровати, подбирает одну ногу под себя и продолжает ораторствовать.
На больших белых подушках из чешского полотна вырисовывается обрамленное густыми черными волосами правильное лицо жены с синими глазами, а ее обнаженная шея и грудь, приподнимающая легкое одеяло, говорят о здоровье, нерастраченной силе и спокойной красоте. Однако газда Андрия ничего этого не видит, а смотрит сквозь жену и окружающие ее предметы в далекие края своих грез тем взором, каким тщеславные люди смотрятся в зеркало.
Приглушенным и полным значительности голосом, сопровождая свои слова на сей раз острым, пронзительным взглядом, газда Андрия, в полном неглиже, продолжает начатый вечером разговор:
– Никто не подозревает, до какой степени я могу быть строгим и неумолимым. Да, да, мало кто меня знает по‑настоящему. Думают, что я вот такой услужливый, любезный и предупредительный от недостатка силы и смелости, что я будто бы человек мягкий и жалостливый. Но только ошибаются они. Я лютая змея! Арнаут! Я бы, если бы это потребовалось государству, гнал со службы, посылал на каторгу и казнил, если понадобится. Да‑да, казнил, казнил! И глазом бы не моргнул. Только поглядел бы дело, разобрался, вынес приговор, и раз! раз! раз!
Тут газда Андрия, показывая, как рубят головы, ударяет ребром правой ладони по сжатой в кулак левой руке. По противоположной стене простерлась, точно какое‑то доисторическое животное, его вытянутая тень, а его руки, символически отсекающие головы, кажутся беспокойными челюстями этого зверя.
Женщина смотрит на маленького волосатого человечка в ночной рубашке и теплом белье, с белым колпаком на голове. Когда он взмахивает руками, из‑под рубашки то и дело выглядывает ступня подогнутой ноги. Показывается то твердый и большой, вросший в тело ноготь на большом пальце, то шишковатая пятка, сухая и бескровная, как у мумии. Женщина на мгновение закрывает уставшие глаза. На ее тяжелые веки ложатся серебристые блики от ночника на тумбочке. Но и тогда она слышит, как над нею запыхавшийся человек продолжает свое государственное дело.
– Раз! Раз! Раз! – Дико и страстно звучит его голос.
Снова открыв глаза, она видит его недоверчивый и пронзительный взгляд, который ищет на ее лице выражение согласия или отрицания. А потом, в доказательство того, что он не трус и не тряпка, он рассказывает ей случай из своей молодости. Всего этих случаев насчитывается четыре или пять, и они часто повторяются, однако каждый раз щеточник рассказывает их словно впервые. Чаще всего это бывает звучащий правдоподобнее прочих рассказ о всеобщей забастовке в Будапеште, свидетелем которой газда Андрия был, еще будучи молодым подмастерьем. Он тогда на глазах у испуганной толпы рабочих, забившихся в какой‑то тупик, спокойно перешел по самой середине площадь, над которой свистели пули жандармов, стрелявших с другого берега Дуная. А потом все спрашивали друг друга, кто этот юноша, которого, видно, и пуля не берет; хотели нести его на руках, сфотографировать и показать его журналистам, но он убрался подобру‑поздорову, ему это ни к чему было.
Аница хорошо знает эту историю, но каждый раз следит за ней и проверяет своей цепкой памятью, не изменил ли щеточник что‑нибудь, не добавил ли чего и не убавил. И как ни странно, рассказ каждый раз повторялся в неизменном виде, до последней мелочи, как это может быть только с вымышленными историями.
– Да, да, дорогая моя, газда Андрия – это тебе не мокрая курица, – говорит человек в ночной рубашке, почему‑то с обидой и укором, хотя жена ничего не сказала, и верхняя губа его с одной стороны слегка подрагивает.
Жена в замешательстве опускает глаза.
Наконец он решает лечь, гасит свет, укрывается розовым шелковым одеялом и быстро погружается в сон, бормоча что‑то себе под нос все тише и тише. А жена, у которой прошла вся сонливость, широко раскрывает глаза и, не мигая, глядит на причудливой формы холмик, образуемый телом спящего мужа и складками одеяла. Сон никак не приходит.
В первый год она слушала хвастливые россказни мужа и повествования об эпизодах, в которых он неизменно играл главную роль, без какого‑либо волнения, почти безучастно, удерживаясь от зевоты и делая вид, будто рассказ хотя бы в какой‑то мере ее занимает. Но его истории росли, становились все длинней и смелее, все агрессивнее и фантастичнее. Она почувствовала отвращение. Ей казалось унизительным часами слушать хвастливые выдумки этого человека, выказывая внимание и искреннее сочувствие. Было оскорбительно, что он воображает, будто может перед ней, как перед неодушевленным предметом или существом, лишенным разума, давать волю воображению, не трудясь ни обуздывать свой язык, ни умерять свою лживую фантазию. Еще девушкой она слышала от замужних женщин и подруг, что есть нехорошие и странные мужчины с извращенными желаниями, требующие от женщин унизительных и неестественных вещей. Она не знает ни таких людей, ни их повадок, но то, что делает муж, как ей думается, вероятно, что‑то вроде этого. Во всяком случае, она чувствует себя существом, которым злоупотребляют и которое мучают подлым и бездушным, хотя на вид невинным и вполне дозволенным образом. Ей стыдно из‑за всего этого. Ее томит и жжет невыносимо, с каждым днем все больше, чувство глубокого унижения и стыда, но вместо того, чтобы разбудить в ней естественный инстинкт самозащиты, эта боль полностью отнимает у нее дар речи, сковывает движения, убивает каждое решение в самом зародыше. А ее пассивность и непротивление побуждали щеточника еще смелее и безогляднее упиваться молодечеством и самовосхвалением. Эта здоровая и разумная женщина, разбуженная, но неудовлетворенная в своей могучей женственности, могла одним движением своей сильной руки свалить тщедушного человечка, запеленать в одеяло, точно некоего уродливого младенца, и приказать ему спать, могла одним‑единственным словом заставить его замолчать, опомниться и понять, как он глуп и безумен, когда городит свой вздор, и еще того глупее, когда воображает, что кто‑то глуп настолько, чтобы слушать его и верить. Она могла и всей душой хотела сделать это, но сил в себе не находила. И, как заколдованная, должна была выслушивать то, что презирала, смотреть на то, что ей было отвратительно, и терпеть то, что она ненавидела. И каждый вечер позволяла щеточнику выводить перед нею, как перед нанятым свидетелем, кривляющийся хоровод лживых выдумок и болезненных бредней.
И только тогда, когда муж, насытившийся и удовлетворенный, ложился и засыпал вот так, как теперь, она полностью осознавала необыкновенную тяжесть и жалкую уродливость своего положения. Она чувствует себя униженной, смятой и запачканной, точно кто‑то вытер об нее влажные и нечистые руки, а потом бросил в эту темную глубину. Она думает, что надо было бы как‑то бороться и спасаться, но не видит – как. И у несчастья есть свои категории. К которой относится это? Похоже, что не определишь. А то, что не может найти себе места ни в одной из существующих категорий, каждый должен выносить сам, ибо тут ничем не поможешь. Человек, а в особенности женщина, защищая свои права и свою личность, должен опираться на других людей и на свое право – то, которое сформулировано в законах или, по крайней мере, в понятиях и обычаях общества. А на что она может пожаловаться в своем на вид идеальном браке? Как объяснить другим, что она отдана на невообразимо гнусную и настолько невыносимую пытку, что если она не хочет сойти с ума и умереть от скуки, стыда и отвращения к нему и к самой себе, то ей надо бежать! Как доказать, что жизнь в этом солидном, богатом доме рядом с мужем, разумным, обходительным, степенным человеком, – невыносима? И из‑за чего? Как сделать это, если она и мысленно не может найти слов для определения того, что происходит, если она и здесь, в четырех стенах, один на один с этим человечишкой, не находит в себе сил встать на свою защиту? Она знает только одно – что она страдает и долго не выдержит. Может быть, это и есть настоящее, большое и безысходное человеческое несчастье, когда человек теряет дар речи от омерзения и цепенеет от стыда перед тем, что другие делают с ним, так что оказывается не в состоянии отстаивать свои права и вынужден, будучи жертвой, брать вину на себя. В такие мгновения она чаще всего думает о бегстве из этого дома. Как в детстве, ночью, лежа в теплой постели, мечтают о необыкновенных приключениях, необъятном счастье и фантастических успехах, так и она теперь представляет, как было бы дивно и страшно бросить этот дом и этого человека. Решить и одним махом освободиться от всего раз и навсегда. Она прекрасно понимает, как дерзновенно это было бы, как безумно и как страшно для нее и непостижимо для семьи и людей. Видит, что это невозможно и неосуществимо. И все же через минуту ловит себя на том, что снова до деталей представляет себе свое бегство. В момент, когда дома никого не будет, побросать в свой старый чемодан самые нужные вещи, только те, что она принесла из дому, и уйти. Просто‑напросто вернуться в маленький отцовский дом на окраине! Там, кроме отца, – самая младшая из сестер и брат. Сестра изучает философию и пишет стихи, а у брата слабое здоровье, и он не любит работать, но зато хорошо играет на гитаре и так добр, что получил прозвище «ангельская душа». Правда, отец – человек крутой и своенравный. Правда, вести хозяйство тяжело. Много работы и всегда какие‑нибудь нехватки. Но что это значит в сравнении с тем, как она живет здесь? Несбыточным сном и недостижимым счастьем кажутся ей теперь бедность и тяготы ее прежней жизни, кажутся чем‑то таким, что никакой ценой и никаким образом не может быть возвращено, будучи однажды оставлено. Ибо она хорошо знает, что отец и не подумал бы принять ее в дом, что она осталась бы одна против всех, что бегство – безрассудный и роковой шаг, равносильный самоубийству. И женщина плотнее зажмуривает глаза и упрямо не расстается со своим сном наяву о бегстве под кров родительского дома.
Все чаще и длительнее становятся эти бессонные часы, когда она лежит рядом с маленьким холмиком – своим спящим мужем, который при первом же случае, в разговоре с гостями, скажет скромно, но самоуверенно:
– Кто трудится, тот не знает, что такое бессонница. С тех пор как я себя помню, я засыпаю, как только лягу, и не помню, чтобы мне когда‑либо что‑нибудь снилось.
Знает она эту фразу наизусть, как и все остальное.
И, думая об этом, молодая женщина чувствует боль в отяжелевших грудях, боль, которая растет, растет и заставляет придавливать их обеими руками. Но тогда боль разливается по всему телу, и она глотает рыдания вместе со слезами. Мышцы бедер сокращаются так, что собственные ноги заставляют ее встать. К горлу поминутно подкатывает комок и перехватывает дыхание.
Так она бодрствует и так наконец засыпает, когда усталость убеждает ее, что нечего искать выхода там, где его нет, и что завтра все будет, бог весть с чего и почему, лучше, – лучше или, по крайней мере, иначе.
А назавтра – все то же, что и всегда, только хуже.
До полудня она еще чувствует себя сравнительно спокойно и безопасно. Между нею и сегодняшним вечером стоит преграда – немного сна и забвения. Она забывается, отдавая распоряжения и занимаясь мелкими домашними делами. Но уже около полудня возникает страх перед ночью и тем, что она может принести. А она может принести все.
Движимый неодолимой потребностью самовозвеличения и принижения всего живого и непокорного, щеточник каждый вечер разрушал и опрокидывал то какое‑либо учреждение, то целую отрасль, то какую‑либо выдающуюся личность и на этих развалинах воздвигал свою собственную фигуру во весь сверхъестественный рост своей долго таимой, а сейчас распоясавшейся уродливой ненависти ко всему и зависти ко всем и по любому поводу. В свете его критики и иронии все вокруг оказывалось слабым, недостаточным и несовершенным, будь то государственная власть, армия или экономика; даже сама церковь, к которой он еще выказывал известное уважение, была слишком либеральна и плохо организована. Рабочий класс распущен и недостаточно эксплуатируется, суды слишком мягки и медлительны, все власти заражены мягкотелостью и нерадивы. Все люди испорчены или лишены способностей и ленивы. Короче говоря, мир полон безобразия и несовершенства.
Изредка газда Андрия водил жену в театр. Это для нее были радостные часы. Она с детства любила театр, особенно оперу. Кроме того, для нее был счастьем каждый миг, проведенный с мужем не наедине, ибо тогда это был тот уравновешенный, солидный газда Андрия с его пресловутым «подходом», ничем не напоминающим об изнанке, открытой только ей.
Вернувшись из театра, Аница всегда старалась лечь как можно скорее, избегая разговоров, чтобы сохранить в себе то ощущение светлого и теплого возбуждения, которое оставалось в ней после театрального представления, особенно после музыки и балета. Но это удавалось ей все реже. Щеточник не давал ей покоя даже тогда, когда она уже лежала в постели. Тщательно и неторопливо проделав свои процедуры, как некое богослужение в свою честь, он оказывался перед женой, которая уже заранее трепетала, пригвожденная к кровати, из которой бежать и спасаться было уже некуда. И он начинал длинно и подробно объяснять ей, что балет Народного театра никуда не годится, что все это зиждется на неправильной основе, недобросовестно, бесталанно, слабо, небрежно. Он нагибался над ней и доказывал, что прославленный танцовщик Краевский, которого они видели сегодня вечером, танцевал молодого рыцаря в «Спящей красавице» вяло и без всякой мужественности.
– Что он, этот красавчик, воображает, будто все дело в миндалевидных глазах и закрученных усиках? Разве так влюбленный подходит к женщине, о которой мечтает? Я не актер, не танцовщик, не мое это дело, но меня так и подмывало подняться на сцену и показать ему, как это делается. Вот был бы я у них дирижером и балетмейстером! У меня бы они не отлынивали от дела и не работали кое‑как, можешь мне поверить, и этого прыганья, кто в лес, кто по дрова, не было бы. Уж они бы у меня вставали на пальцы и вертелись, пока в глазах не потемнеет. А он бы у меня так и летал, стоило мне только глазом моргнуть – понимаешь? – а не то чтобы гримасничать и кривляться, а потом получать большие деньги и называться артистом и танцовщиком.
И щеточник в полном ночном туалете – в длинной рубашке, без зубов, с ватой, торчащей из ноздрей и уха, склоняется над лежащей женой и дирижирует невидимым оркестром и танцорами, строго и неумолимо, а затем энергично выгибается, показывая, что, по его мнению, должен был делать прославленный танцовщик, приближаясь к принцессе.
И все это завершается его крепким, бесцеремонным сном, которым он так гордится, и ее мучительной бессонницей. А на следующий вечер повторяется то же представление, только с другим содержанием.
Она уже не знает, как объяснить это хотя бы самой себе, но только видит, что ее муж, окончив дела и оставшись после ужина с нею глаз на глаз, превращается просто в чудовище. Из вечера в вечер он играет перед нею какую‑нибудь новую роль, каждый раз все менее логичную и правдоподобную, все более отвратительную и страшную. Она не находит в себе сил ни остановить его, ни защититься, слушает его со скукой, с омерзением и даже с ужасом, потому что в последнее время эти разговоры вызывают у нее самый настоящий страх. Она знает, что все это лишь болтовня обиженного природой горемыки, который ночью, в промежутке между прозаическими дневными делами и мирным сном, открывает свою ярмарку чудовищ и демонстрирует свою неведомую людям изнанку, и притом только перед ней, женой, которую он кормит и одевает и перед которой, следовательно, ему нечего ни стыдиться, ни стесняться. Она знает это, и все‑таки ей делается страшно. Ибо в своих похвальбах и перечислениях всего, что он мог бы сделать, будь он тем и таким, каким он себя в эту минуту воображает, щеточник уже давно перешагнул границу не только вероятного и возможного, но и того, что допустимо и естественно.
Теперь вечерние часы становились для него настоящими оргиями тщеславия, властолюбия, маниакальной жажды могущества и славы и бог знает каких еще инстинктов, в другое время скрываемых им или неведомых ему самому, а у нее вызывали тайный ужас и все более длительную бессонницу. Поводом ему могла послужить любая вещь. Например, разговор начинается с заметки из уголовной хроники. На пустой поляне под железнодорожным мостом найдена мертвой какая‑то женщина, иностранка, исколотая ножом. Женщина – молодая, красивая, элегантная, явно из высшего общества. Случай необъясним. Вся печать писала о нем, и все спрашивали друг друга: кто такая эта загадочная красавица? Кто ее убийцы и что могло быть поводом для преступления?
Газда Андрия сначала читает вслух репортаж о происшествии, а потом разваливается в кресле и с улыбкой превосходства говорит жене:
– Дураки! Чего тут думать? Мало разве тайных обществ или шпионских организаций? И разве одна такая красавица находится у них на службе? А с этими организациями дело обстоит так: завербуют тебя, и ты вступаешь; даешь присягу – клянешься на револьвере или ноже, что будешь беспрекословно исполнять все приказы и никому и никогда не выдашь тайну. А потом ошибешься в чем‑нибудь или проговоришься – и ты уже обречен. Спасения тебе нет. Когда ты меньше всего этого ждешь – нож в спину. Так и надо! Тут ни пощады, ни колебаний быть не может. Хоть бы она мне была родная сестра, я голосую: смерть. И приговор приводится в исполнение автоматически, молниеносно. Если надо, проделываю это собственноручно. Понимаешь? И вот эти безмозглые слюнтяи из полиции забегали и забили во все колокола. И что «речь идет о черноволосом сильном человеке высокого роста», и что это мог бы быть такой‑то или такой‑то, а такой‑то вне подозрений. Ничего‑то они не знают, я тебе говорю. Все они слепцы и недотепы и по себе судят о других.
Газда Андрия встает и подходит к жене.
– А может, убийца как раз тот, кто, по мнению нашей мудрой полиции, «полностью вне подозрений», тот, на кого никто и не думает. Может, он не черноволосый и не высокий. Может, сам шеф уголовной полиции каждый день мимо него проходит и здоровается, как со старым знакомым. Может, убийца упивается тем, как они, ведя расследование, кинулись совсем в другую сторону, и в душе смеется над ними. Ха‑ха‑ха‑ха!
Громко смеясь, щеточник обходит вокруг стола и снова оказывается лицом к лицу с женой.
– Кто бы он ни был, он мастер своего дела, человек, в котором ни единая жилка не дрогнет, когда он должен выполнить какое‑то задание во имя высших целей, человек с верным глазом и еще более верной рукой.
Щеточник поднимает сжатый кулак и пристально смотрит жене прямо в глаза.
– Это я могу сказать, потому что я и сам такой. Все думают: газда Андрия – обходительный, мягкий добряк, а сами и не подозревают, что за человек Андрия Зерекович! Ха‑ха! Я не божья коровка и не кроткий барашек, а рысь, рысь, и притом самая коварная, самая опасная. Понимаешь? Вот, я знаю, что и ты думаешь, будто мне и во сне не приснится, что я могу убить какого‑нибудь преступника, вроде этой женщины на поляне.
Лицо щеточника озаряется, как светом, улыбкой, полной снисходительности и презрения. Жена опускает глаза, кровь ударяет ей в лицо, губы шевелятся, но слов она не находит.
– Вот видишь – думаешь‑таки! – инквизиторски склоняется над ней щеточник. – Сама видишь, что я угадал. А все потому, что и ты меня не знаешь, так же как и остальные. Видишь ли, когда дело касается принципа, интересов какого‑нибудь святого дела, в верности которому я поклялся, то для меня убить такую вот потаскуху в шелку и мехах – все равно что выпить стакан воды. «Предала – получай свое!» Первый удар – с ходу, в шею, где проходит главная артерия __ на! – а потом еще три: один в спину, два в грудь – на! на! на! И готово!
Жена, испуганная, смотрит, как он взмахивает огрызком желтого карандаша, точно каким‑нибудь стилетом, выдыхая: «На! На! На!» Она хорошо знает этот карандаш, о котором он уже несколько раз рассказывал, что пишет им уже шестой год, потому что умеет, как никто, экономно писать и очинивать, а уж потерять карандаш или забыть его где‑нибудь, как это случается с другими, для него исключено. Поэтому он ему и служит дольше, чем кому бы то ни было. «Еще лет шесть мне прослужит при моей бережливости и аккуратности. Будь все такие, как я, карандашные фабриканты передохли бы с голоду», – так он говорил, она хорошо это помнит.
Замахиваясь этим самым карандашом, газда Андрия продолжает:
– Так‑то вот! Без звука и без крика. А потом моешь руки и возвращаешься в город как ни в чем не бывало. И когда речь заходит об этом случае, участвуешь в разговоре, читаешь себе газету – спокойно, как и любой другой, и ни один мускул у тебя на лице не дрогнет.
Щеточник выпивает воду из стакана, стоящего на столе, и взглядывает на жену – укоризненно, но и не без снисходительности, к которой примешивается изрядная доля презрения, точно прощая ей незнание и непонимание того, что знать и в самом деле не так просто и чего столько других людей, поумнее ее, не знают и не подозревают.
Затем газда Андрия еще немного читает газету, а потом подымается и величественным, размеренным шагом, который бы гораздо более приличествовал человеку намного выше и крепче его, отправляется в ванную совершать ночной туалет.
А жена лежит после всего этого в своей кровати, точно выпущенная из застенка, где ее пытали. В темноте ей страшно, но лампу она зажечь боится. Мысль о сегодняшнем разговоре вызывает отвращение, а думать о чем‑нибудь другом она не в состоянии. Когда ей удается заснуть, во сне перед нею возникает окровавленный труп незнакомой женщины, так что она просыпается с глухим стоном. Но щеточник не слышит ее, так как спит на правом ухе, а левое у него заткнуто ватой.
В такие ночи женщина совсем не могла спать. Ее мучило желание бежать из этой душной комнаты, от этого механически ровного дыхания. И все чаще она вставала и уходила в ванную. Она мыла руки и лицо, плескала холодную воду на набухшие груди. Это приносило лишь минутное облегчение. В теплой постели, где ее подстерегали прежние мысли, ощущение прохлады от воды тотчас превращалось в жгучий жар, охватывавший грудь огненным панцирем. Она вскакивала снова, бежала в ванную, не помня себя, бросалась, как была, в одной рубашке, на холодные каменные плитки пола и лежала так, стеная, пока не начинала чувствовать, как дрожит и коченеет на твердом, холодном полу и как вместе с этим мучительным холодом в нее проникает мысль, что это принесет болезнь или смерть – во всяком случае, освобождение.
Таким образом она часто проводила по полночи. Утро приносило обычный будничный мир, вечер – рассказы мужа, а ночь – новое неизъяснимое страдание.
Во многих на вид благополучных существованиях разница между днем и ночью огромна. Много есть людей, которые, как и эта удачно пристроенная женщина, при свете дня выглядят спокойными и уравновешенными, а ночью терпят такие муки, что сами себя не узнают в горячем мраке своей постели. Но когда в такой жизни разница между днем и ночью станет слишком велика, когда иссякнет способность скрывать страдание и притворяться, а день и ночь перестанут уравновешивать друг друга – тогда такая жизнь разлетается вдребезги.
Больше двух лет Аница вела такую жизнь. Не было никаких оснований думать, что третий и четвертый год не пройдут так же, а за ними и все остальные. Она давно уже примирилась с мыслью о том, что ее муку невозможно высказать кому бы то ни было, а потому невозможно и найти средство против нее. И так прошли бы, наверное, годы; если бы она не сломилась, то перенесла бы все эти годы все так же молча перенесла бы годы, но не могла перенести часов и минут.
Один такой непереносимый и роковой час настал, когда сравнялось два с половиной года ее брачной жизни. Это было одно из тех мгновений, которые, вспыхнув перед нами, ясно и неопровержимо показывают, что жизнь, которую мы ведем, невозможна, недостойна, невыносима. Все наше существо тогда содрогается до самых основ и напрягается, готовясь к трудным, может быть, трагическим решениям. Но так как мир вокруг нас никогда не застывает в неподвижности и так как сами мы всегда склонны избегать роковых переломов, то обычно случается так, что какая‑нибудь мелочь – чье‑то лицо, какой‑то разговор, книга или пустячное дело – привлекает к себе наше внимание и уводит наш взгляд от истины, представшей перед нами, давая нам возможность еще раз обмануть самих себя, трусливо избежать правильного решения и продолжать жить по‑старому. Однако на сей раз то, что случается так часто, не случилось.
В эти сентябрьские сумерки Аница услышала, как горничная внизу кому‑то открывает. Она подумала, что это муж, который пришел сегодня раньше обычного, и задрожала. Оказалось, что пришел по делу приказчик из лавки. Будь это газда Андрия, она провела бы этот вечер как и всякий другой и жизнь в доме продолжалась бы своим чередом. Однако сейчас надо было ждать прихода мужа. Это было невыносимо и – в этот момент – невозможно. По сильному, еще девичьему телу пробежала резкая, тревожная дрожь, панически устремившаяся в одном направлении, неодолимо таща и гоня ее прочь из этого дома. В мыслях – страх, неизвестность и только один вопрос: какие еще сцены и рассказы несет с собой этот вечер и какая ночь ей предстоит? Если бы хоть горничная была тут. Несколько ничего не значащих слов, которыми бы они обменялись, отвлекли бы мысли Аницы в другую сторону и задержали ее. Но девушка как раз в это время вышла куда‑то. Аница вдруг оказалась перед своим шкафом в спальне. На полу уже был открыт ее маленький и дешевый девичий чемодан из искусственной кожи. Она быстро, как ей это много раз снилось и виделось в полусне, когда она лежала рядом со спящим мужем, сложила самые нужные вещи (только те, что принесла с собою из дому) и с чемоданом в руке сбежала по лестнице. И опять никого не было ни видно, ни слышно. Мысли ее совсем остановились. А неудержимое волнение во всем теле все росло, такое сильное, что могло бы порвать цепи. Оно несло ее. как соломинку вниз по крутой улице и вело прямо к отчему дому.
[1] Газда – уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв.: хозяин.
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »