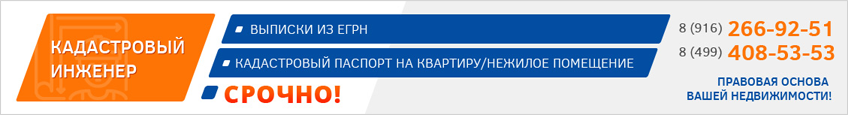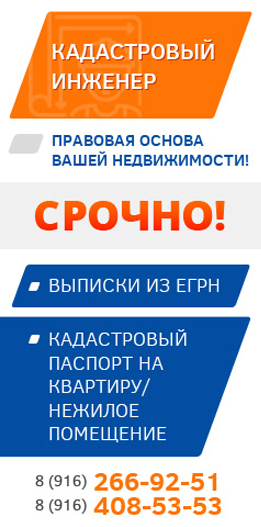06 июля 2013
Никонов Павел Федорович Pavel Nikonov. Автор: Донченко А.И.
(в альбоме 104 файлов)
Изобразительное искусство / Живопись / Примитивизм
Разместил: Донченко Александр
Никонов Павел Федорович
Pavel Nikonov
(Род.1930)
Живописец. Портретист, пейзажист, жанрист.
В 1949–1956 годах учился в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова у П.П. Соколова-Скаля. Член "Группы восьми".

Начало творческой карьеры Никонова складывалось успешно. Его дипломная работа «Октябрь» (1956) была удостоена отдельной статьи в журнале «Творчество», которую написал классик соцреализма П. П. Соколов-Скаля. «Октябрь» стал украшением Научно-исследовательского музея Академии художеств в Ленинграде. Кроме того, одна из первых самостоятельных работ художника была приобретена А.А.Дейнекой, чьи произведения, показанные на персональной выставке в 1957 году, способствовали формированию индивидуальной манеры молодого мастера.
П.Ф. Никонов – один из художников, стоявших у истоков "сурового стиля".
В начале 1970-х годов отошел от этого направления и увлекся искусством примитива. Областью его интересов стал преимущественно бытовой жанр. Главное место в творчестве Никонова занимает тема русской деревни, над которой художник работает по сей день. Существование современной деревни Никонов воспринимает как драму исторической судьбы русского крестьянства. Экспрессивная манера письма и эмоциональная насыщенность цвета придают значимость внешне простым сюжетам его картин.
Преподает в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. Лауреат Государственной премии России, действительный член РАХ.
Картины Никонова представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, музеях и частных собраниях других городов России, в Национальной галерее Софии (Болгария).
________________________
Павел Федорович Никонов о живописной традиции и формировании художественного восприятия
Предваряя подробные беседы с художником Павлом Федоровичем Никоновым, нам показалось интересным опубликовать фрагмент, посвященный живой связи живописных школ и направлений, формированию художественного восприятия и эстетических представлений художника. Каким было влияние увиденных в эвакуации дореволюционных альбомов, эмигрантских журналов, прочитанных в Праге в квартире сестры Давида Бурлюка Марианны Фиало. Что значило для формирования советского искусства и искусствознания оторванность от художественного наследия полувековой давности. Это история творческих и человеческих трагедий, абсурдности запретов, пошлости и губительности властного произвола в искусстве. Это история жизни нашего великого современника, живописца Павла Федоровича Никонова, с которым беседовал историк Дмитрий Споров.

Споров: Мне бы очень интересно было услышать о Вашем восприятии, вообще о принципе художественного мира. И как оно менялось. Какие для Вас были работы или художники как идеал, как образец для подражания. Потому что от Вас, как от живописца, это услышать особенно интересно.
Никонов: Да. С каждым художником происходит такая эволюция. От одного художника к другому, от одного направления к другому. Тут можно мне довольно четко разграничить, действительно. Первая моя привязанность, она, в общем, сохранилась и до сих пор. Но она была самой сильной и единственной. Это была привязанность к Репину.
С: (смееясь) Это потому что Вы Репина носили в Третьяковской галерее, рулоны [в запаснике].
Н: Носил. И картины, но это потом позже. Нет, эта привязанность возникла еще раньше. Вот я уже рассказывал, что мы уехали в эвакуацию. Наша художественная школа уехала в село Воскресенское в 42-м году. Почему нас туда отвезли, вот это не понятно. Но это было такое глухое село в предгорьях южного Урала. Это Башкирия. Село было русское.
С: Воскресенское.
Н: Оно там в предгорье Урала. Такие холмы начинаются, речка Нугуш, по-моему. Она впадает потом в Белую. Место просто божественное. Красиво невероятно. Но мы приехали уже осенью. Слякоть, дождь, холод. И потом быстро началась зима. Вообще в военные годы зимы были очень снежные и жутко морозные.
С: Да. 41-ый, 42-ой, 43-ий... Очень холодные были.
Н: Да. Я вот помню, когда все это военное время – голод и холод. Вот холод страшный был. И единственное место, где мы могли собираться, художественной школой, когда в Воскресенском жили. Там раскидали нас по разным… кто жил в райисполкоме, в общежитии нас расселили. Кто жил просто в школе. Школу эту сделали тоже общежитием. И, в общем, наш коллектив довольно большой, расселили по разным местам. Главный административный корпус, библиотека, столовая, было какое-то здание местного управления. Его нам дали тоже. Мы там часто собирались в холодные самые вечера. В место единственное, где протапливалось, где тепло было. Библиотеку из Москвы удалось привезти. Библиотека была потрясающая. Я помню, такие фолианты были и книги были очень древние, и 19-го века.
С: Это библиотека Академии?
Н: Нет, библиотека Художественной школы. Да, да. Вот это удивительно.
С: А, библиотека МСХШ. А собственно, фолианты – это дореволюционные издания…
Н: Дореволюционные издания были.
С: «Мир искусства», «Жар-птица»…
Н: Да, да, да. Монографии Грабаря. Вот эта «История искусства» Грабаря. В общем, полная библиотека была, удивительная. И вот во время войны сохранили, а сейчас она полностью… Все исчезло, все куда-то разошлось.
С: Кстати говоря, восприятие художественного наследия тоже формировалось на черно-белых репродукциях. Совершенно фантастическая история.
Н: Совершенно верно. Именно черно-белая. Потому что я помню эту историю Репина, двухтомник Грабаря, он был черно-белый. Там цветных не было. Вообще тогда цветных мало было репродукций.
С: Ну, кстати говоря, дореволюционная печать часто была цветная.
Н: Ну! Они, кстати, были может и получше, чем сейчас делают. Ну вот, и каждый какие-то брал книги. И вот очень много у нас было литературы по итальянскому искусству.
С: Возрождения.
Н: Возрождение раннее и позднее. Все время, все эпохи итальянского искусства. И я помню, что оно как-то на меня не оставляло впечатление, я как-то равнодушен был. Потому что кругом нас была совсем другая жизнь. Это – крестьянский уклад. Причем старинный такой.
С: Это не старообрядческое село?
Н: Нет. Не старообрядческое, нет. Ссыльные были. Потом кто-то выяснил, что туда было сослано много кулаков ссыльных. Они опять восстанавливали свое хозяйство, и были очень сильные. Дворы такие крытые. Там коровы стояли. И репинская монография Грабаря, она как бы иллюстрировала, продолжала вот эту жизнь, которая нас окружала. Поэтому мне это было близко. И я помню – тогда я просто влюбился в Репина. Это было самое сильное мое впечатление. Надо сказать, что потом, когда я уже видел эти работы, в подлинниках, в частности «Бурлаки». Ко мне приходило какое-то небольшое разочарование. Я ожидал большего по этим репродукциям черно-белым. Мне казалось, что она значительнее и крупнее картина. До сих пор мне кажется, что с размером он мог бы сделать больше.
С: Именно «Бурлаки»?
Н: «Бурлаки».
С: Или все?
Н: Нет, «Бурлаки». Именно картина «Бурлаки». Ну а там мне запомнилась «Проводы новобранца», потому что эти сцены были постоянны в Воскресенске. Это крупное село было. И там был военкомат. Туда собирали всех призывников на фронт. Сцены были такие – это просто народные сходы, где крик, плач, вой бабский, гармошки, все переплеталось в мощное месиво. И это невероятное просто сходство было репинских картин, и в частности «Проводы новобранца», и то, что мы видели – одно к одному. Поэтому вот эта привязанность к Репину была очень сильная и долгая.
Вообще-то, в этой библиотеке много было... вот эти монографии кнебелевского издания: Серов, Левитан. И Сурикова тоже. Вот эта привязанность, она до сих пор сохранилась. И всё направление, всё развитие творчества тех ребят, которые формировались в Воскресенске.
С: Оно пошло от русской реалистической живописи. Интересно.
Н: Оно пошло от этого времени. А позже, я помню, когда мы уже приехали после эвакуации сюда в Москву, это был 44-й год, 43-44-й. Мы в это время зимой приехали. Не зимой, а осенью – август-сентябрь. Никаких музеев не было. Третьяковка была закрыта. Музей изобразительных искусств был закрыт, там ничего не было. Потом он открылся, там были слепки в общем. Живописи мы не видели. Но в этот момент, каким образом, я не знаю, наш отец достал альбом новой западноевропейской живописи. Альбом был издан, это наш альбом АХРовского издания. Наверное, до войны он был издан. На материалах вот этого музея…
С: Закрытого Щукинского, да?
Н: Щукинского, да. Щукинского музея. А вот Дима Сарабьянов, Лёля [Мурина - прим.ред.] они помнят этот музей, они до войны его видели. А когда мы приехали, его не привезли, он так и закрылся. Я его так и не увидел этот музей. Но альбом! На меня он произвел просто невероятное впечатление.
С: Он фантастический музей был.
Н: Музей фантастический. Работы, конечно… Вы знаете, я по этим работам, которые в этом альбоме были и в нашем собрании – эти работы мы уже видели, в разрозненном, но все-таки уже в собрании – я вообще сложил впечатление об импрессионизме. Потом, когда стали привозить, в частности, сейчас привезли из музея Орсе из Парижа, и потом я был сам в Париже, смотрел Орсе, Вы знаете, я понял, что эти самые наши коллекционеры собрали самые-самые сливки.
С: Многие говорят об этом.
Н: Самое лучшее, что было в импрессионизме, собрали вот эти ребята. Это меня просто поражает. Надо было иметь такой глаз, чтобы увидеть и отобрать именно самое лучшее. И конечно, вот этот альбом на меня произвел впечатление. Не только на меня. А на всех, на многих из нас. И он определил, дальше мы стали подражать. Я помню, я поехал на практику. Я еще учился в школе, но уже к маслу нас допустили, к масляным краскам. Моне меня поразил. Клод Моне. И я писал эти лилии свежие. Памятуя вот эти клодовские работы. И вот эти два мощных запала, которые были восприняты, они как-то, мне кажется, определили и дальше. До сих пор я остаюсь верен той привязанности, которая у меня была – к Репину, к передвижникам, к Сурикову, ну и, конечно, к французской живописи.
С: А начало века в России? Все эти «Бубновые валеты»…
Н: А Вы знаете, этот вот период дошел до нас очень поздно. Я вот Вам точно расскажу. Я когда защитил диплом, диплом у меня был тогда темой заданной (это сейчас свободная), тогда задавались темы. Так же как в старой Академии были библейские темы…
С: А у Вас ленинские.
Н: Ленинские и революционные. Совершенно верно. Это было в 56-м. Я защищался в 56-м, а в 57-м году было 40-летие Октября. И нам задали тему, посвященную Октябрьской революции. Я написал этот диплом. А тут фестиваль подоспел. Я получил за этот диплом серебряную медаль в честь фестиваля молодежного. А в качестве награды нас послали в Чехословакию. До этого, я Вам скажу, что я видел из русской живописи 20-го века. Это был Павел Кузнецов. Он в Третьяковке висел в те годы, в первые годы экспозиции. Когда после войны привезли.
С: Наверное, поздний был?
Н: Нет, нет. Висел вот этот период, 10-е годы, киргизский степной цикл висел. Фалька была крымская работа «Алупка» или «Алушта». Очень хороший пейзаж. Это 30-х годов. И автопортрет Кончаловского висел в желтой рубашке. В основном, там по залам были экспозиции. Мне нравилось, Кончаловский – зал, Врубеля – зал, зал вот этих художников. А Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, они как-то вместе висели. По-моему, у Павла Кузнецова три работы висели степные.
С: У Борисова-Мусатова тоже несколько работ всего висело?
Н: Да, три работы висели. «У пруда», вот этот период. А зал Кончаловского – это сирени, сирени, сирени и автопортрет. «Бубновый валет», об этом мы даже не знали! На этом завершалось. А дальше там, может и висело, но когда наступало время Всесоюзной выставки, все это снималось, и вешалась экспозиция Всесоюзной выставки. Потом опять она снималась, и вешались прежние картины. Выставочных площадей было мало, поэтому в Третьяковке все это происходило.
С: А в запасники не пускали тогда?
Н: Вот запасник был закрыт. И я Вам скажу почему. Я продолжу с Чехословакией. Я попадаю в Чехословакию, и там так получается, что я оказываюсь... Три художника было. Лаптев заболел, лег в больницу. И он попросил, чтобы меня оставили, чтобы я ему помогал, чтобы вместе потом уехать. И мы жили где-то… нас разместили где-то там. Но потом, постольку, поскольку пришлось продлевать мое пребывание, меня поместили на квартиру к председателю Союза художников Чехословакии. Был такой художник Фиало. Я туда въезжаю. Вдруг хозяйка выходит, пожилая женщина и на чисто русском языке начинает со мной объясняться. Она говорит: «Я русский хорошо знаю». Я говорю: «Так здорово!» - «Так я русская. Я дочь Бурлюка». Вы представляете себе?!
С: Давида Давидовича?
Н: Давида Бурлюка, дочь Бурлюка. Бурлюк же эмигрировал. «Я здесь прожила все время. И всю войну». В общем, я оказался в квартире этой вот.
С: Как звали ее?
Н: Я не помню. И она мне однажды говорит: «Вы комнату свою приберите». Она мне выделила комнату. Я там жил. «Вы немножечко приберите. Я Вам дам пылесос, Вы приберите комнату». Она объяснила. Я пылесос первый раз увидел. А я чищу, чищу, чищу. И под диваном пыль, а там не проходит трубка. Я так поднял одеяло, смотрю – там кипы журналов. Вечерами делать нечего, я достал. Это была белоэмигрантская литература по революции, по культуре, по всему-всему. Это были издания журналов, которые издавались там же, за рубежом.
С: А что-то конкретное помните?
Н: Вот не помню. Названия не помню.
С: Ну и Вы штудировали, смотрели?
Н: Ну что Вы! Откровенно говоря на меня Чехословакия не очень сильное впечатление произвела. Там в основном позднее барокко, архитектура и т.д. Музеи там слабенькие, живопись смотреть.... Я просто окунулся. И вот я впервые узнал о том, что такие есть художники как Шагал, как Борис Григорьев. И «Бубновый валет». Но там были еще «Русская мысль» или «Русская воля». Вот как-то так назывался журнал. Там еще были просто исторические, вся революция, все вот эти события.
С: Может гессеновский «Архив русской революции» там был? В общем, там много издавалось.
Н: Много издавалось. Я просто не стал смотреть, что это за журналы. Вся революция, вся гражданская война написаны с позиции противоположной стороны.
С: А помните свое восприятие? Как Вы это понимали? Все равно все мы советские люди были, которых воспитывали с определенной исторической правдой, позицией. Как Вы воспринимали то, что читали там?
Н: Для меня это не было неожиданностью. Я был уже как бы подготовлен. Во-первых, у нас был отец репрессирован. Что-то до нас доходило. А потом, Вы знаете, среда, в которой мы жили в художественной школе и в институте суриковском, она была совершенно иначе настроенная. Воспринималось все, что вокруг нас делалось с большой долей иронии и критики. В основном почему? Живопись к тому времени настолько стала официозной. В основном, эти Всесоюзные выставки, которые ожидали с нетерпением. Потому что у нас информации не было по изобразительному искусству никакой. Что происходит? Мы только имели возможность, ждали, когда какие-то [художники], Пластов или там какие-то другие, от которых ждали – Иогансон, какого-то качества. Ждем Всесоюзную выставку. Она открывается и опять бесчисленное количество этих картин про Сталина. Сусальные, с такими названиями претензионными «Я видел Сталина», Мочальского картинка такая, «Парад суворовцев». Или там Шурпина картина «Утро нашей родины». Стоит Сталин на фоне рассвета. Бред! И только такие картины. Вот это вызывало у нас жуткое отторжение. И мы понимали, что все это пропаганда. Эти выставки с этими картинами, это уже переходит всякие...
С: Разумные границы.
Н: Да, совершенно! Поэтому у нас было критическое ко всему отношение. И когда я столкнулся с этой литературой, я с невероятной жадностью прочитал, и я понял, что история должна быть каким-то образом пересмотрена. Но тогда уже бродило это все, особенно в среде творческой.
С: Но это уже 60-е годы?
Н: Это 57-й год, фестиваль. Я в 58-м году был в Чехословакии. А там местная интеллигенция с нами тоже начинает разговаривать на эти темы: «Как вы там, да как вы там?» И еще тогда к нам относились хорошо до этих событий чешских.
С: Но там же, действительно, русских было очень много. Кого не увез СМЕРШ в 44-45-ом году, таких, как дочь Бурлюка.
Н: Они там остались. Там жизнь была более или менее благополучная. Но все равно, интеллигенция относилась очень критически ко всему, что у нас происходило.
С: Интересно вот еще что. Как раз Дмитрий Владимирович [Сарабьянов и Елена Борисовна Мурина - прим.ред.] об этом говорили, и это просто как событие культуры интересно. Живая-то связь какая-то была с тем началом века и вообще со школой Серебряного века и со всем-всем-всем? И вот очень интересно, они рассказывали, что будучи искусствоведами, занимаясь всем этим тоже не представляли о каких-то вещах. Не знали, что жив Татлин, который прожил до пятьдесят какого-то года. Вот Вы сталкивались с этой живой связью, человеческой связью со старыми?
Н: Так вот я сейчас хочу к этому подойти. После этой поездки в Чехословакию, когда я вернулся, уже всего начитался, насмотрелся. Когда я вернулся, мы уже стали интересоваться. К этому времени я поступил в Союз. Мы начали как-то объединяться с художниками, близкими и по профессиональным взглядам, и по общей жизни. Тогда сложилась наша группа художников девяти, «Девятка» так называемая. Андронов, Миша Иванов. Миша Иванов был более подготовлен, он все-таки жил в семье Всеволода Иванова, писателя. А тот был лично знаком с Кончаловским. Каким-то образом встречался с этими людьми. А я вот совершенно с этой средой не был связан никаким образом, потому что отец был военнослужащим. Никакой связи совершенно не было! Никаких контактов!
С: Удивительная ситуация, конечно.
Н: Да, я потом-то выяснил, что все они живы!
С: И тот же Павел Кузнецов.
Н: Я мог с Фальком встречаться, и мог с Петром Петровичем Кончаловским, и мог со многими другими. Потом уже в шестьдесят какие-то, я мог с Дейнекой каким-то образом… мне удалось познакомиться. И у меня с ним были какие-то контакты. Потом уже, значительно позже, когда художники выполняли заказы (был такой комбинат производственный, там заказы были, поступали разные заказы). Надо было написать портрет какого-нибудь писателя – Пушкина, Толстого, Ленина, масса других. Мы там сталкивались. Я обратил внимание на человека очень преклонных лет – сгорбленный, плохо одетый, приносил один и тот же портрет Пушкина. И у него не принимали. А там так – художники толпятся в прихожей, а просмотр за дверьми, в зале. Доступа нет. Только вызывают автора. «Никритин! Никритин! Никритин, давай иди!» Этот Никритин идет, я смотрю, он выносит опять этот портрет. Вот это был Никритин. Представляете! Я думаю: «Что этот Никритин ничего не может сделать?» Таким же образом Вялов, например. Он любил поддать, такой веселый был. Он мне говорил: «Никонов, ты мне стакан поднеси, я с тобой сейчас поговорю». Вот ему несешь, наливает. «Ты что думаешь – ты первый, что ли? Все это было давно уже». А я так смотрю на него: «Что было, что он заливает?» А потом я уже узнал, когда выставили в зале Третьяковки ОСТ, мать честная! Вот это Вялов.
С: Но он-то ничего не показывал?
Н: Ничего не показывал.
С: Только выпивал (смеется).
Н: Знаете, многие из них, я понял, как Никритин, они творчески уже не работали. Вот этот излом, который произошел в нашей истории в 30-е, в 40-е годы, когда образовался Союз художников. Многих приняли, потом исключали многих. Перед войной исключили, была чистка Союза. И, конечно, это сломало многих. И личного контакта, таких вот бесед, так и не довелось. Единственное, когда мы уже приехали, когда я приехал из Чехословакии с ребятами, в это время выходит книга, называется она «Великий эксперимент» или «Великая утопия», Камилла Грей написала такую книгу. Вот эта книга, когда мы стали листать, была написана на материале запасников Третьяковской галереи. Там я впервые увидел все эти картины: и Машкова раннего, и Кончаловского, Малевича, супрематизм – все там. Но разразился скандал, когда узнали каким образом Камилла Грей попала в запасник (тогда еще можно было ходить), что пропуск она выписывала, категорически запретили доступ туда. Категорически!
С: Интересно, Вы не помните какой примерно год книги? Это поздний хрущевский или брежневский уже?
Н: Нет, это по-моему Хрущев еще… Нет, это было еще при Хрущеве, потому что доступ в запасник был закрыт, а президентом Академии художеств тогда был Александр Герасимов. Но в запасник нас провела, такая была искусствовед Мюда Наумовна Яблонская. Как раз в это время она была сотрудником Третьяковской галереи, методистом, и одновременно она в Университете преподавала. Потом после этой истории, которую я расскажу, она из Третьяковки вынуждена была уйти. Ее уволили, она полностью переключилась на преподавательскую работу. А тогда она была методистом. И вот однажды она говорит: «Ребята, давайте я вас проведу. Только никому. А сколько там вас?». Набралась наша группа – восьмерка. Это уже шестьдесят какой-то там, после выставки «30 лет МОСХа».
С: Понятно.
Н: После, после. Я по этой книге Камиллы Грей еще какие-то книги, если до нас доходят, я уже каким-то образом, что-то могу по репродукциям приблизительно очень [понять]. Но таких художников, как Древин, Удальцова – этих мы еще не знаем, то есть я, во всяком случае. И вот уже в 65-ом году, она нас проводит в этот запасник. Он находился в церкви, во дворе Третьяковской галереи. Сейчас она восстановлена.
С: Это в Толмачах.
Н: Я не знаю, как она называется. Сейчас восстановлена эта церковь. А тогда это был запасник.
С: Ну это тоже в Лаврушинском переулке.
Н: Вот, прямо. На территории Третьяковской.
С: Все понятно.
Н: Сейчас там службы идут, это церковь. Типичная картинка такая – барабаны, крыша, лоска никакого. Луковиц нет, крестов, конечно, нет, ничего нет. А внутри стоят стеллажи деревянные сколоченные, тесно-тесно. Вот между ними такой проход буквально (показывает), только так можно. И вот она нас водила и вытаскивала.
С: Как вытащить, если проход такой?
Н: Она вытаскивала, Вы не поверите, она вытаскивала по 2/3 картины, 1/3 оставалась. Она так вот: «Видно? Ну хоть так видно!» Она не спускала. Я не знаю, я не представляю, как это все хранилось, вот так вытянет, и обратно. И вот мы тогда все это роскошество и увидели. Но с одной стороны это было здорово, а с другой стороны печально, потому что мы уже взрослые люди…
С: Состоявшиеся художники.
Н: Да. Мы уже взрослые люди, вроде бы должны быть состоявшимися. Я например, чувствую, мать честная, все надо начинать сначала. Потому что все это нас поразило. И еще один, конечно, визит к Кончаловскому. Его не было уже, а его сын Миша, Михаил Петрович нас к себе пригласил и показал всего раннего – «Сиенский портрет (Миша, сходи за пивом!)», «Матадор» – все вот это. Мы падали от восторга. А он почему-то говорил: «Ребята, я с вами не согласен. Поздние вещи у него не хуже». А он доставал какую-нибудь «Сирень», а мы говорили: «Не надо, не надо нам, давай еще раз покажи нам этот Сиенский». Вот так вот формировалось, Вы представляете себе! А потом уже, Альтик, сын Древина, когда был реабилитирован [отец]... Надо было дождаться реабилитации. Это было после ХХ-го съезда. Впервые Древина показали на выставке шестидесятых «30 лет МОСХа».
С: Это там же, где история эта?
Н: Ну да, где с Хрущевым была история. Впервые показали Древина. А потом уже мы ходили к Древину, он уже не боялся. Многие же боялись. Он уже доставал и показывал. Я вообще уже тогда, а сейчас в этом еще больше утвердился – я считаю, что 30-е годы, если бы с ними так не поступили, как с ними поступили… это было бы мощнейшее явление!
С: Просто по фигурам, да?
Н: Да. И по фигурам, и по качеству. Совершенно другая живопись была. Что произошло? 20-е годы – это торжество супрематизма, Татлина, очень короткое время. Штеренберг. Потом к 30-м годах их всех начинают затирать, затирать. Потом образуется Московский союз художников. И уже художники, которые проявили себя в 20-е годы, им говорят: «Давайте поезжайте по командировкам, давайте нам работы на сегодняшнюю тему». И они вынуждены ехать. Но вот эта вынужденность новое качество открывает в живописи, новое качество. Вот Древин, например. Он блестящий художник. Но его алтайский период – это совершенно новая эпоха. Также как Шевченко, шикарный. Сейчас вот была выставка – сезаннист такой. И вдруг его посылают на Каспий, и он оттуда привозит такую живопись! То есть это был новый импульс, понимаете, для них.
Над материалом работали:
Споров Д.Б.
Соболева Е.А.
Источник: http://oralhistory.ru/projects/art/nikonov
_________________________
Биография Павла Федоровича Никонова
(30 мая, 1930)
«Все, что вижу вокруг себя, то и рисую»
П. Ф. Никонов
Молодые годы
Павел Федорович родился в семье военного 30 мая 1930-го в Москве. Свой интерес к изобразительному искусству стал проявлять после эвакуации Московской художественной школы, где в то время учился его старший брат, Михаил. Сибирское, забытое Богом поселение Воскресенское, пленило мальчика своей изолированностью от внешних проблем. Уже тогда он влюбился в русскую деревню: такую обособленную, которую населяют сильные и мудрые люди.
С 1941 по 1949 год будущий художник учился в Московской средней художественной школе, а после ее окончания поступил в Суриковский институт. Его ранние работы схожи с работами многих его современников: картины на коммунистическую тематику, темные сдержанные тона, угловатые и в то же время тяжелые фигуры – все это так называемый «суровый стиль».
В 1956 году Никонов защищает дипломную работу «Октябрь», которая, в 1957, получила большую серебряную медаль на Всемирном фестивале и золотую медаль на Всесоюзном фестивале молодежи и студентов. Благодаря успеху этого полотна, Никонов становится членом Московского союза художников.
После учебы его ждут многочисленные выставки на родине и за ее пределами, но первая поездка, датированная 1959 годом, была в Братск. Впечатленный этой поездкой, он пишет картину «Наши будни».
Более значимой в его творчестве стала командировка в Саяны, вместе с геологической экспедицией. В 1962 году Павел Федорович показывает картину «Геологи», которая после выставки в честь 30-летия МОСХА становится хрестоматийной для советского искусства, даже не смотря на то, что вызвала возмущение у самого Никиты Хрущева.
Молодые годы Павла Федоровича Никонова можно ассоциировать с пиком «сурового стиля». Он и явился его основоположником и входил в группу «восьми» - художников, которые пытались ввести авангардизм на государственные выставки.
В начале 1970-х Никонов уезжает в деревню Алексино Тверской губернии и покупает там дом. Вдали от города «суровый стиль» кажется ему «последним всплеском социалистического реализма» и он находит себя в деревенском стиле.
Зрелые годы
Зрелые годы можно считать от момента, когда художник сумел отвернуться от собственного штампа и начать свое творчество в совсем ином жанре – деревенском.
Не последнюю роль в новом витке творчества сыграло местоположение деревни Алексино. Оно находится вблизи Калязина, небольшого старого городка, который был наполовину затоплен при строительстве плотины. В популярном среди туристов месте живописец разглядел глубокую трагедию русского народа. Особым и мистическим местом он считает колокольню Николаевского собора, которая наполовину возвышается над водой, для него это – символ потерь и разрушений в русских деревнях.
В 1974 и в 1977 получает первые премии союза художников, а в 1985 году Никонов удостоен большой золотой медали на фестивале реализма в Софии.
Первая персональная выставка состоялась в 1991 г. в Центральном Доме Художника, за работы, которые Никонов представил, получил золотую медаль Академии Художеств СССР (АХ).
С 1998 года Никонов является членом-корреспондентом академии, а с 2000 – действительным членом АХ.
В 1994 году было присвоено звание «Народный художник Российской Федерации», а с 1998 года художник руководит мастерской станковой живописи в институте им. Сурикова.
Бытовой жанр настолько захватил москвича Павла Федоровича, что он до сих пор находится под его властью. Для Никонова важна трагедия человека на фоне Российской природы. Хотя, она отнюдь не глобальна (забытая всеми старушка, затопленная колокольня, похороны в деревне), он возвращает зрителя к рассмотрению обыденных проблем. Для него не важны исторические или современные события, он видит смысл жизни в буднях, он сострадает не всему человечеству, он сострадает каждому человеку в отдельности. В этом и есть зрелость никоновского творчества.
«На фоне неброской деревенской природы человек как бы растворяется, становится одушевленным натюрмортом. Небо и земля, а на ней человек со своими проблемами» - говорит сам Павел Федорович.
Самые известные картины Павла Федоровича Никонова
Безусловно, самая известная картина это – «Геологи» (1962. Работа мало плановая: все фигуры скомпонированы на первом плане, но, не смотря на это, работа выглядит динамичной. Присутствие темных тонов не омрачает сюжет, а наоборот - вызывает у зрителя чувство самоотверженности и служению высокой цели.
«Несущий крест» (2005) – холст, который восхищает своей простотой и трагизмом. На нем – одинокая сгорбленная фигура, движения которой едва угадываются благодаря легким прозрачным мазкам. Нет помпезности момента, даже тусклые краски наводят на мысли об одиночестве.
Принадлежность картин Павла Федоровича Никонова к художественным стилям
Ранние работы художника выдержаны в «суровом стиле». В зрелые годы он находит совершенно новый стиль – деревенский. Эти работы напоминают импрессионизм, однако в динамичных и темных тонах просвечивается социалистическое прошлое в творчестве художника. Также Никонов входит число художников- нонконформистов.
Музеи и галереи – места выставок картин Павла Федоровича Никонова
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственный русский музей, С. Петербург
Вологодская картинная галерея,
А также во многих музеях современного искусства стран СНГ, в частных коллекциях и музеях Англии, Германии, Болгарии и др.
Источник: http://www.art-kartina.ru/jiv-nikonov.html
_____________________
Выставка Павла Никонова. Экспозиция в Русском музее
С 25 апреля по 23 июня 2008 г.



Никонов с внуком на фоне портрета своего отца. И внук, и отец, - Фёдоры.



















 Еще файлов 104 из этого альбома
Еще файлов 104 из этого альбома