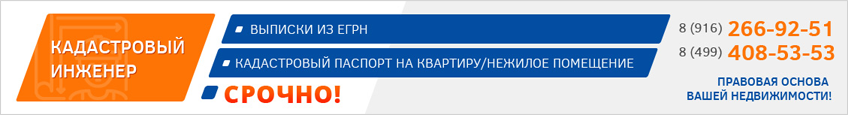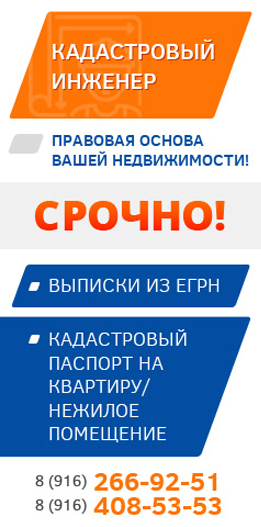29 октября 2010
Жажда. Автор: Андрич Иво
Литература / Литература славян и народов СССР / Босния и Герцеговина / Альбом Андрич Иво
Разместил: Александр И
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
Перевод: Тамара Попова
Иво Андрич
Жажда
Вскоре после начала австрийской оккупации в большом высокогорном селе Сокоце учредили жандармский пост. Начальник его привез с собой откуда‑то издалека красивую молодую жену, блондинку с большими синими глазами, которые казались стеклянными. Хрупкая красота и европейская одежда делали ее похожей на маленькую драгоценную вещичку, которую потерял кто‑то из путешественников, пробираясь по этим горным кручам на пути из одного крупного города в другой.
Жители села еще не пришли в себя от первого изумления, а женщина не успела еще как следует убрать свою спаленку со множеством подушечек, ковриков и лент, как в краю объявились гайдуки. В казарму прибыл отряд карательного корпуса, и людей стало вдвое больше. Начальник дни и ночи носился по округе, расставляя и проверяя посты. Молодая женщина жила в полной растерянности и страхе в обществе деревенских жительниц, только чтобы не быть одной. Дни ее проходили в постоянном ожидании. И сон и еда были отравлены этим ожиданием и уже не давали сил и не подкрепляли. Крестьянки заботились о ней и заставляли есть, пока, потчуя ее, не съедали и не выпивали все сами. По ночам, чтобы она уснула, подолгу рассказывали ей разные были и небылицы. Под конец, утомленные рассказами, женщины засыпали на разостланном на полу красном ковре, а она продолжала смотреть на них с кровати, страдая от тяжелого запаха кислого молока и шерсти, который исходил от их одежды. И когда после многодневного ожидания появлялся муж, то и это не приносило ей ни радости, ни утешения. Возвращался он смертельно усталый от переходов и бессонных ночей, обросший, грязный и мокрый. Сапоги, которые он не снимал по нескольку дней, набухали от воды и грязи; двое слуг еле стаскивали их, и вместе с шерстяными портянками сдиралась кожа с его отекших, стертых до крови ног. Он приезжал осунувшийся, истерзанный тревогами и заботами, с потрескавшимися губами и лицом, почерневшим от солнца, ветра и горного воздуха. Рассеянный и озабоченный неудачами, он мысленно строил планы новых операций. Во время этих кратких передышек дома жена ходила за ним, как за раненым, а дня через два‑три на заре снова провожала в горы. И поэтому все ее мысли и молитвы сводились к одному – чтобы как можно скорее переловили этих несчастных гайдуков и пришел бы конец страшной жизни.
И однажды ее горячее желание осуществилось. Был пойман главный и самый коварный гайдук – Лазар Зеленович. После него, как говорили в селе и в отряде, уже нетрудно будет переловить или разогнать остальных, более мелких и менее ловких и опытных гайдуков.
Лазара поймали случайно. Солдаты натолкнулись на него, преследуя совсем другого гайдука. Два месяца тому назад, уже перейдя сюда из Герцеговины, Лазар был ранен в грудь. Об этом никто не знал. Чтобы залечить рану, он с помощью своих молодых друзей устроил под огромной колодой на берегу горного ручья нору из сучьев и ила. В этой норе он й жил; с тропы, которая шла высоко над ручьем, его не было видно, а до воды он мог достать рукой. Целыми днями промывал он свою рану на груди, в то время как жандармы искали его повсюду, рыская по кручам и взгорьям. Может быть, он и выздоровел бы, если бы нашел более удобное убежище и если бы не началась ранняя жара, из‑за которой ему стало хуже. Изо всех сил защищался он от мух и комаров, но рана расширялась, и в глубине ее, куда не доходила вода, началось нагноение. Усилилась лихорадка.
Видя его в таком состоянии, один из товарищей решил принести ему немного воска и ракии для раны. Патрули заметили юношу, когда он от пастушьих хижин направлялся к потоку. В последнюю минуту, обнаружив погоню, юноша побежал вдоль ручья и бесследно исчез.
Начальник, который оставил своего коня на лужайке и бежал впереди жандармов за молодым гайдуком, вдруг по пояс провалился в какой‑то нанос и ил и уперся ногами во что‑то неподвижное и мягкое. Может быть, выкарабкавшись с трудом, он пошел бы дальше, так и не заметив маленькое, ловко замаскированное убежище Лазара, если б не почувствовал тяжелого запаха гноящейся раны. Вытащив ноги, он заглянул сквозь ветви и увидел внизу овчину. Поняв, что в норе скрывается живой человек, он, однако, и не подумал, что это может быть сам Лазар, полагая найти там скрывшегося юношу или кого‑либо из его товарищей. Чтобы обмануть притаившегося гайдука, начальник громко отдал приказание карателям:
– Он, должно быть, пошел дальше, вниз по ручью. Бегите за ним, а я потихоньку пойду следом – покалечил ногу об эти сучья!
Одновременно он подал одной рукой знак, чтобы они молчали, а другой – чтоб шли к нему. Трое из них, приблизившись, бросились на укрытие и схватили гайдука, словно барсука, сзади. У того были ружье и длинный нож, но он не успел ни выстрелить, ни замахнуться. Руки ему связали цепью, ноги – поясом и так понесли, как колоду, по козьим тропам и круче к лужайке, где командир оставил своего коня. Еще по дороге они ощутили тяжкий смрад, а когда положили его на траву, увидели огромную рану на оголенной груди. Живан из Горажде, служивший в карательном отряде проводником и доносчиком, сразу же узнал Лазара. Они были из одного села и оба праздновали день святого Йована.
Гайдук вращал большими серыми глазами, которые посветлели от жизни на воздухе возле воды и блестели от лихорадки. Начальник велел Живану еще раз подтвердить, что перед ними действительно Лазар. Все склонились над гайдуком. Живан во второй раз спросил его:
– Это ты, Лазар?
– Вижу, ты знаешь меня лучше, чем я тебя.
– Так ведь и ты меня знаешь, Лазар!
– Да если бы я тебя никогда не знал, теперь узнал бы, кто ты и что. Узнали бы тебя все села, отсюда и до Горажде – и сербской и турецкой веры. Приведи хоть самого несмышленого ребенка – и тот скажет, как посмотрит на нас: этот, что лежит связанный и раненый, – это Лазар, а падаль, что над ним, – Живан.
Гайдук испытывал лихорадочную потребность говорить, словно этим он мог продлить свои дни, а Живану хотелось показать свою силу и защитить свою честь перед собравшимися, и кто знает, доколе продолжалась бы эта перебранка, если бы ее не пресек начальник. Но на все другие вопросы гайдук не отвечал. О товарищах и пособниках он ничего не сказал. Отговаривался болезнью и раной. Начальник посовещался с унтер‑офицером, высоким личанином, после чего строго приказал не давать гайдуку ни капли воды, как бы он ни просил.
Пока готовили все, что нужно, для перевозки раненого гайдука, молодой жандармский начальник присел в стороне на землю передохнуть и собраться с мыслями. Облокотившись на колено и подперев рукой голову, он смотрел на зеленеющие горы, которые раскинулись перед ним, словно безбрежное море. Он хотел думать о своей удаче, об ожидающей его награде, об отдыхе возле жены. Но мысль ни на чем не задерживалась. Он чувствовал только тяжелую, словно свинец, усталость, которую нужно было преодолеть, как человеку, засыпающему на снегу, необходимо преодолеть сон и холод. С трудом оторвавшись от земли, он наконец поднялся и приказал двигаться. Подошел второй патруль. Теперь их стало уже девять человек. Топорно сделанные для гайдука носилки были грубы и суковаты. Один из карателей бросил на них свой плащ, отвернувшись в сторону, словно бросал его в бездну.
Шли медленно. Солнце припекало. Командир, двигавшийся позади носилок, проехал вперед – запах, исходивший от раненого, был невыносим. Только после полудня, когда спустились в гласинацскую долину, они взяли у одного из крестьян телегу с упряжкой волов и уже перед заходом солнца вышли на равнину возле Сокоца. Издали они напоминали группу охотников, возвращающихся с охоты, только охотники были задумчивы, а трофей – необычен.
На лужайке перед казармой собрались деревенские женщины и дети. Среди них была и жена командира. Сначала она даже и не думала о гайдуке, ждала только мужа, как всегда. Но так как женщины вокруг нее без конца говорили о гайдуке, и все вещи фантастичные, и так как вереница людей, растянувшаяся, словно похоронная процессия, приближалась медленно, ее тоже охватило чувство нетерпения и тревоги. Наконец они подошли. Люди с шумом открыли и левую створку ворот, что обычно делали только тогда, когда привозили дрова или сено. Начальник мешком свалился с коня, как это бывает с очень усталыми людьми. Молодая женщина почувствовала на своей щеке прикосновение его колючей, отросшей за несколько дней бороды, запах пота, земли и дождя, который он всегда приносил с собой из служебных походов.
Пока командир отдавал приказания, жена искоса взглянула на гайдука. Он лежал связанный и неподвижный, только голова, под которую бросили полено и охапку сена, была немного приподнята. Он ни на кого не смотрел. Как от издыхающего зверя, от него исходил тяжелый запах.
Отдав нужные распоряжения, командир взял жену за руку и повел ее в дом, чтоб она не смотрела, как снимали с телеги и развязывали гайдука. Умывшись и переодевшись, он вышел посмотреть, как устроили Лазара. Гайдука посадили в подвал начальнического дома, которому предстояло служить временной тюрьмой. Дверь была ненадежной – с железной решеткой в верхней части и обычной задвижкой. Поэтому целую ночь ее должен был охранять часовой.
За ужином начальник ел мало, но зато много говорил. Рассказывал жене о всяких мелочах живо и весело, как мальчишка. Он был доволен: после пяти месяцев бесплодных блужданий и напряжения, после незаслуженных укоров со стороны начальства в Рогатице и командования из Сараева удалось наконец захватить главного и самого опасного гайдука. От Лазара он узнает, где скрываются остальные, узнает имена соучастников и тогда уж отдохнет душой и получит благодарность начальства.
– А если он не захочет их выдать? – испуганно спросила жена.
– Выдаст. Должен выдать, – отвечал командир, не вступая с ней в дальнейшие разговоры об этом.
Начальнику очень хотелось спать. Усталость клонила его к земле и была сильнее, чем радость, голод и желание женщины. Свежесть постели его опьянила. Он силился что‑то сказать, пытался казаться бодрым, но язык заплетался и интервалы между словами становились больше и больше. Он заснул, не окончив фразы и сжимая пальцами плечо жены, маленькое, белое и круглое.
А женщине не спалось. Она была и довольна, и возбуждена, и испугана, и опечалена. Она долго смотрела на спящего мужа: лицо его наполовину утонуло в мягкой подушке, а рот был полуоткрыт, словно он с жадностью тянул в себя пуховик. Бодрствующий человек всегда чувствует между собой и своим спящим другом какое‑то холодное, непреодолимое расстояние, которое увеличивается с каждой минутой и все больше наполняется непониманием и странным ощущением замкнутости и безнадежного одиночества. Женщина заставляла себя спать. Она закрыла глаза и старалась ровно дышать. Но лишь только она задремала, ее пробудила смена караула возле дверей подвала. И мысли ее снова обратились к гайдуку, как будто она совсем не спала и ни о чем другом не думала.
В карауле стоял теперь тот самый Живан, земляк Лазара. Сейчас она поняла, что ее разбудила не столько смена караула, сколько голос гайдука. Он просил пить.
– Кто в карауле?
Молчание.
– Ты, что ли, Живан?
– Я. Молчи.
– Да как мне молчать, собачья твоя вера, когда я умираю от жажды и жара. Принеси мне немножко воды, Живан, святым Йованом нашим прошу, не то подохну как скотина.
Живан притворяется, будто не слышит, и не отвечает, надеясь, что гайдуку надоест наконец просить. Но тот снова зовет его тихим и хриплым голосом:
– Если ты знаешь, что такое мука и неволя, послушай меня, Живан, и пусть дети твои будут живы!
– Э, не заклинай меня детьми! Ты знаешь – это приказ, а служба есть служба. Молчи! Разбудишь начальника.
– Спит, окаянный! Хуже турка он! Морит меня без воды, мало ему моего несчастья! Но если ты мне по вере брат, дай немного водицы.
Из их дальнейшего приглушенного разговора женщина поняла, что Лазару не дают пить по распоряжению начальника, который рассчитывает, что жажда заставит гайдука выдать товарищей и пособников. А тот, терзаемый невыносимой жаждой и жаром, видимо, находил облегчение в непрестанном повторении слова «вода». Он замолкал на несколько мгновений, и снова после долгого и глубокого вздоха следовал поток слов:
– Э‑э, Живан, Живан! С голоду бы тебе подохнуть! Зачем мучишь меня, будто басурман какой. Дай мне кружку воды, а потом убей тут же, и да простит тебя бог на том и на этом свете. У‑ух!
Но Живан перестал отвечать ему.
– Живан!.. Живан!.. Молю тебя, как бога… Горю!
Тишина. Поздно взошел в эту ночь месяц. Живан перешел в тень, и, когда он откликался, голос его еле слышен. Гайдук громко зовет начальника:
– Начальник, не мучь меня больше, чтоб у тебя царский хлеб в горле застрял!
После каждого возгласа тишина кажется еще глуше. В этой тишине гайдук яростно скрежещет зубами и тяжко стонет, уже не снижая голоса и не следя за тем, что говорит.
– У‑у‑ух! Суки поганые, чтоб вам до скончания века кровь пить и никогда жажды не утолить. Чтоб захлебнуться вам нашей кровью, слышишь ты, начальник, мать твою…
Последние слова он выкрикнул сиплым, бессильным голосом, который едва срывался с пересохших губ. И снова Живан велел ему молчать, обещая, как только рассветет, позвать начальника, и тогда наверняка дадут воды, пусть только чистосердечно расскажет о том, о чем будут спрашивать. А теперь пусть потерпит. Но гайдук в лихорадке через несколько мгновений уже забывал обо всем и снова вопил:
– Живан, заклинаю тебя именем божьим, горю! Воды!
Словно ребенок, он по сто раз повторял это слово, с разной силой и на разные голоса, как позволяло прерывистое, лихорадочное дыхание.
Окончательно лишившись сна, охваченная дрожью, женщина слушала, сидя на краю кровати, и уже не чувствовала своего тела, не воспринимала окружающих предметов, поглощенная новым, не изведанным ею ранее ужасом, который порождали в ней крик гайдука, сипящий шепот Живана и тяжелый, крепкий сон мужа возле нее.
В пору ее короткого детства в родительском доме нередко случалось, что по ночам, особенно весной или осенью, она подолгу не могла уснуть и без конца прислушивалась к мучительному и однообразному шуму на улице: то ветер скрипел жестью на дымовой трубе, то хлопала садовая калитка, которую забыли запереть. Тогда, в детстве, она придавала таким шумам особое значение, воображая, что это борются, ропщут или рыдают какие‑то живые существа. В жизни часто бывает так, что видения и ужасы, преследовавшие нас в детстве, вдруг, правда в более крупном масштабе, претворяются в действительности и из сильных, но воображаемых страхов становятся большими и реальными. Как было бы хорошо, если бы невинные страхи, которые когда‑то прерывали ее девичий сон, оказались настоящими, а эта ночь, это глухое село, грозные слова и крики гайдука, спящий под боком муж были бы только сном и вымыслом!
И непрерывно, словно лязг железной трубы или скрип на ветру раскрытой калитки, доносился до нее через равные промежутки хрип человека, охваченного лихорадкой, обессилевший человеческий голос, который с трудом скользил по воспаленному неподвижному языку и вылетал из сухого, широко открытого рта:
– Воды, воды! У‑у‑ух!
Живана сменил в карауле другой жандарм, но стон гайдука не прекращался, только становился все тише и слабее, а женщина по‑прежнему сидела в каком‑то оцепенении, прислушиваясь к каждому шороху снизу с одной и той же безысходной и неотвязной мыслью: как понять и уразуметь этих людей, эту жизнь? На одной стороне жандармы, на другой – гайдуки (два лица одного несчастья), и одни немилосердно преследуют других, и, глядя на них, можно с ума сойти от жалости и горя.
Об этом Лазаре давно говорили в Сокоце. Она слышала рассказы о его свирепости. Передавали, будто он подвергает нечеловеческим пыткам непокорных крестьян, из засады убивает жандармов, а потом раздевает их догола и бросает на дороге… А теперь вот жандармы возвращают ему долг. Но может ли это продолжаться вечно? Ей кажется, что они летят в какую‑то бездну и все вместе погибнут в беспросветной ночи среди крови, жажды и невообразимых ужасов.
По временам ей хотелось разбудить мужа, чтобы он одним своим словом, одной улыбкой рассеял этот кошмарный сон. Но она не двигалась с места, не будила мужа, а продолжала сидеть так же неподвижно, словно рядом с ней был покойник, и прислушивалась к голосу из подвала, одна со своим страхом и своими вопросами. Она припоминала молитвы, которым учили ее в детстве. Но это были молитвы для какой‑то другой, забытой и прошедшей жизни; сейчас они не давали ни успокоения, ни помощи. Словно с неизбежностью собственной смерти, она смирилась теперь с мыслью, что человек, который сейчас стонет, будет вечно кричать и стонать, а человек, который спит и дышит возле нее, – вечно спать и молчать.
А ночь надвигалась все гуще и непрогляднее, и это была уже необычная ночь – одна в бесчисленной веренице дней и ночей, – это была какая‑то особенная, вечная и бескрайняя пустыня мрака, в которой последний оставшийся в живых человек стонет и взывает о помощи и, потеряв надежду и не веря в сострадание, умоляет о капле воды. Но на всем огромном божьем свете с его водоемами, дождями и росами не осталось больше ни капельки воды, и от всех земных существ – ни одной живой души. Воды пересохли, и люди погибли. Жив только слабый отблеск ее сознания – единственный свидетель всего этого.
И, однако, рассвело. С недоверием женщина смотрела, как постепенно белела стена в том самом месте, где она белела каждое утро, и как заря, сначала серая, а потом румяная, заполняла комнату, четко обрисовывая и оживляя предметы.
Напрягая слух, она все еще улавливала голос гайдука, но он доносился уже откуда‑то издалека. Ни ругательств, ни проклятий. Только глухо и все реже:
– У‑ух, у‑у‑ух, у‑у‑у‑ух!
Но и это она скорее угадывала, чем слышала.
И хотя рассвет побеждал, у женщины не было сил пошевелиться. Согнувшись и спрятав лицо в ладони, она сидела на краю постели и даже не заметила, когда проснулся муж.
Он открыл ясные глаза; взгляд его упал на опущенные плечи жены и на белевший затылок. И тогда, после первого недоумения, будто теплая и страстная волна, прошло по его телу сознание радостной действительности. Он хотел окликнуть жену, назвать ее по имени, но передумал. Улыбаясь, оц еле слышно приподнялся, опираясь на локоть левой руки, а правой, свободной, не произнеся ни слова, неожиданно обхватил ее за плечи и, притянув, подмял под себя.
Женщина тщетно пыталась сопротивляться. Ей казалось ужасным это неожиданное и властное объятие. Казалось недопустимым изменить ночному миру, в котором она только что жила и страдала, одна со своей мукой. Она хотела высвободиться и объяснить ему, что сейчас этого не может быть, что есть тяжелые и мучительные вещи, о которых она должна ему рассказать, и нельзя так легко и просто через них перейти к обыденной жизни. Горькие слова подступали к горлу, но она не могла произнести ни одного из них. Она только всхлипнула. Муж не заметил этого знака протеста, этого звука, который не смог стать даже маленьким словом. Она хотела оттолкнуть его, но движения ее не имели ни силы ее горя, ни быстроты мыслей. И вот уже жар отдохнувшего и пробудившегося тела подавил ее, словно груз. Под его натиском обмякли мышцы молодого тела, подчиняясь, словно части послушной машины. Рот ее прижали его губы. Она ощущала его на себе, как огромный камень, к которому была привязана и вместе с которым падала стремительно и безостановочно. Теряя сознание и всякую мысль не только о прошедшей ночи, но вообще о жизни, она тонула в глухом и темном море знакомой, но всегда новой страсти. Где‑то над ней остались последние следы ночных мыслей, решений и сочувствия к человеку, но они исчезали один за другим, как исчезают над головой утопленника пузырьки на воде.
Белая нарядная комната быстро наполнялась живым светом дня.
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »